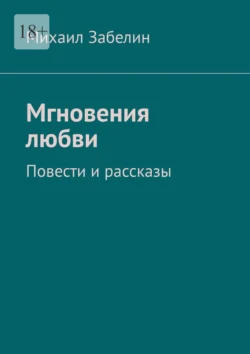Читать онлайн книгу «Мгновения любви. Повести и рассказы» автора Михаил Забелин
Мгновения любви. Повести и рассказы
Михаил Забелин
По-разному складываются судьбы героев этих рассказов. Но их всех объединяет одно прекрасное чувство, важнее и сильнее которого нет ничего на свете, – любовь.
Мгновения любви
Повести и рассказы
Михаил Забелин
© Михаил Забелин, 2024
ISBN 978-5-0064-4883-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Письма
«Я на коне, толкани, я с коня,
Только не, только ни у меня».
В. Высоцкий
I
Кирпичные коробки домов обступали окно. Вьюгой стучался в стекло февраль. Круг света падал на стол и на белый лист бумаги, под лампой было тепло и мягко, и не хотелось уходить из него, иначе становилось жутко, и белая снежная муть подкрадывалась к окну.
Которую ночь не спалось, и много дней не было сил и желания открывать глаза. Павел Петрович сидел на кухне в московской пустой, чужой квартире и писал письмо. В последние годы писать письма вошло у него в привычку, но вот уже много ночей, когда сон не приходил, а голова наливалась тяжестью и воспоминаниями, он садился за пустой лист и писал одну и ту же фразу: «Любимая, единственная моя Иришенька!» Потом он отрывался от письма и долго смотрел в голую стену, словно хотел разглядеть в ней то, что мучило его и не давало покою.
Перед ним на столе всегда лежала стопка писем, которые он затем долго ласкал руками, а потом медленно перечитывал, бережно повторяя по нескольку раз одни и те же слова.
«Милый мой, дорогой, любимый!
Как здорово получать от тебя письма. Самый счастливый момент в моей жизни. Мне так интересно узнавать о твоей жизни, теперь совсем не такой, какая она была здесь, в России. Я как будто ее частично разделяю, но на самом деле ты ужасно далеко. Очень тяжело это ощущать и осознавать. Я сейчас живу только надеждами и ожиданием, хотя порой бывает очень трудно. Но всё это пройдет, пролетит, и я буду вспоминать об этом времени с большой радостью и даже гордостью. Как ты говоришь, «всё будет хорошо». Всё будет хорошо. Я верю в это, я знаю это, я тебя очень люблю.
…Какое счастье, что удалось поговорить с тобой по телефону. Я весь день танцевала…»
«Любимый мой, родной, здравствуй!
Ты знаешь, после разговора по телефону меня не покидает горькое чувство: ты почему-то все время какой-то неспокойный, волнуешься, не веришь, всё время в чем-то или в ком-то сомневаешься. Уверяю тебя, что нет тому причин, нет. Я, конечно, понимаю, что нам здесь гораздо легче, чем тебе там: мы все вместе с родными и друзьями, а ты практически один, да еще так далеко. Но, пожалуйста, поверь мне, что у нас всё нормально, всё хорошо, всё идет своим ходом. Все мы только и делаем, что отсчитываем очередной день, неделю, месяц, которые приближают твой приезд. Вот еще один день прошел. Немножко грустное настроение. Завтра опять холодно, а зимние сапоги я себе так и не купила. Хожу в старых. Наплевать. Осталось немного. Ведь должны же когда-нибудь кончиться эти морозы. Скорей бы весна, лето! Так надоели морозы, холод, надеваешь на себя сто одежек, транспорт этот ужасный. Я очень устаю от дороги, стараюсь в выходные никуда не ездить, отдохнуть от людей, автобусов, метро.
На меня иногда такая тоска нападает, что свет мне не мил. И в последнее время это стало случаться чаще. Настраиваю себя, уговариваю, стараюсь отвлечься – всё равно. Иногда невыносимо тяжко. Кажется, будто время остановилось…
…У нас погода совершенно ненормальная. То морозы -20-25, то оттепель +3+5, снег, дождь. Не помню я такой зимы. Одно только постоянно – солнышко всё время светит. Как в Африке.
…Ужасно хочется съездить загород, покататься на лыжах, как в прошлом году, в марте, когда светило весеннее солнышко, снег прилипал к лыжам, его приходилось сбивать… Скоро опять весна, осталось два месяца. Время летит очень быстро, правда?..»
II
Мартовским снежным днем судьба налетела на нас, как вихрь, сшибла нас и перевернула, перемешала наши жизни…
Мы оказались с Иришенькой одновременно в одном подмосковном доме отдыха, и случай усадил нас за один столик в столовой, где трижды в день собирались отдыхающие. Все дома отдыха похожи друг на друга и будто специально созданы для ненавязчивых, недолгих знакомств. Морозный воздух веселил кровь, легкий, ни к чему не обязывающий разговор с милой соседкой оживлял мозг и волновал сердце, и я уже предвкушал приятное десятидневное развлечение. Жена моя оставалась в Москве и была тоже рада отдохнуть от моего присутствия, потому что за десять лет нашей совместной жизни мы настолько истерзали себя обидами, непониманием, недоверием и равнодушием, что давно не любили и не жили, а только терпели друг друга.
Таких, как я, тысячи. Тысячи мужчин едут зимой на отдых, катаются на лыжах, занимаются спортом, сидят вечером в баре или танцуют, встречают тысячи таких же, как они, одиноких женщин, а потом возвращаются домой, и лишь иногда вечерком, сидя в глубоком кресле перед телевизором, они вспоминают ту ушедшую зиму, и коротко шевельнутся и погаснут в памяти неповторимая в мире улыбка влюбленной женщины и сияющие глаза под мягкой заснеженной шапочкой.
Всё начиналось обычно и просто, и ни я, ни Ира еще не догадывались, что где-то на дне вселенной сошлись на орбите две наши маленькие путеводные звезды и, ярко вспыхнув, повели нас по новому кругу жизни. Кто объяснит, кто узнает, где тот таинственный миг, когда зарождается в человеке уголек любви, и невидимая нить протягивается от сердца к сердцу? Где та граница, за которой вдруг кончается наша скучная, унылая, монотонная жизнь и начинается другая: полная надежд и мучений, ожиданий и встреч, улыбок и слез, легкости чувств и мыслей, сладости и страдания любви?
Ярко светило солнце, и сияло голубизной небо, а в лесу под елями еще хоронился в тени глубокий снег. Какая это сказка – подмосковный зимний лес! Морозный воздух осязаем, как натянутая струна. Солнце брызжет в лицо ветром и снежной пылью, лыжи скользят по проторенной лыжне, и только на ослепительных от солнца снежных полянах приходится останавливаться и сбивать с лыж налипший, набухший снег.
Мы бежали по лесу вдвоем, часто поворачивали и уходили куда-то в сторону, чтобы не видеть людей, – нам никого не хотелось видеть, – останавливались, вдыхали полной грудью пьянящий морозный воздух и улыбались друг другу. Мне кажется, именно тогда перескочила от сердца к сердцу и обожгла нас первая искра близости и любви. Мы стояли рядом, оба, будто наэлектризованные солнечным светом, чистым воздухом, предчувствием весны. Я счищал снег с ее лыж, я гладил рукой холодную деревяшку у ее ног так, словно я гладил и ласкал родную, любимую женщину, и тогда я почувствовал вдруг, что дороже и ближе этой маленькой, хрупкой, стоящей рядом со мной, улыбающейся мне женщины, нет и никого не было у меня, и жгучая нежность к ней, нежность, какой никогда, ни к кому я в жизни не испытывал, перехватила горло.
«Здравствуй, мой дорогой, любимый!
Целую неделю я отдыхала в Софрино. Там красота неописуемая: мягкая, безветренная погода, белый-белый снег, деревья в инее. Каждый день я ходила на лыжах, несмотря на то, что лыжня была сырая, и лыжи совершенно не шли. Но, Боже мой, сколько же воспоминаний навевали эти прогулки, те же самые тропинки, полянка, где мы купались в снегу. Сначала я даже затосковала и очень сильно загрустила, даже где-то в душе пожалела, что приехала сюда, но потом я как-то так себя настроила, что все эти памятные места не грусть наводили, а наоборот, радость и счастье, и главное, надежду на то, что всё будет хорошо. Как будто бы я увиделась снова со своими старыми друзьями, и хотя погода была, в основном, пасмурной, я всё равно ощущала тепло, тем более, что мое солнышко светило мне ярко и горячо…»
III
Последние годы я жила и билась, как птица в клетке. Сгорбившись душой, я несла по жизни свой крест, и не было сил расправить крылья и вылететь из клетки на волю. Куда лететь? Зачем? Когда-то давно, в один из дней душевного подъема, я решилась развестись с мужем. Но решимость пропала, желания перегорели. От судьбы своей не уйдешь. Да и куда было бежать, к кому? Такую малость хотелось в жизни: любви и счастья, и своего милого, уютного дома. Ничего не сбылось, ничего не осуществилось. Рядом был чужой человек, ради которого я мучилась и билась в жизни: за него, за себя, за наш общий дом. А он не хотел или не мог этого понять, и на место любви пришли усталость и равнодушие. Почему нам всю жизнь приходится бороться за то малое, что с рождения должно принадлежать человеку? Биться за то, чтобы жить в нормальных человеческих условиях, биться за то, чтобы делать дело, которое нравится, за то, чтобы одеться и прокормить себя и семью? Я устала бороться, я устала так жить. Я поняла, что надо просто жить, просто плыть по течению и плестись изо дня в день по давно проложенной чужой колее, что ничего больше не будет: ни любви, ни счастья, ни родного дома, и ждать больше нечего.
Так и жила я, постыло и равнодушно, до того мартовского снежного дня, когда судьба налетела на нас, как вихрь, и перемешала, перепутала наши пути.
«Только что получила твое огромное чудесное письмо. Я, к сожалению, не могу так хорошо писать. Мне не хватает слов, чтобы все мои чувства, переживания, эмоции выразить только словами, только на бумаге. А твоими письмами можно зачитываться; мне даже хочется, чтобы кто-нибудь из моих знакомых почитал их, просто гордость испытываю – никогда, никто не писал мне столько красивых, нежных, душевных, любовных и сердечных писем, как ты. Я сохраню их на всю жизнь и в самые хорошие (или тяжелые) моменты буду их перечитывать. Ведь если бы ты не уехал, я бы никогда не испытала такого счастья: получать и читать твои письма, переполненные любовью ко мне, тревогой и надеждой, страданием и радостью. Я очень благодарна тебе, любимый мой, за те слова, чувства, за твою любовь, которые я чувствую и ощущаю на расстоянии, и ты тоже будь уверен во мне.
У нас всё нормально. Я очень устаю на работе, от транспорта. За выходные отдохнуть не успеваю. В театре не была, одной не хочется, жду тебя. Вообще, мне без тебя ходить в театры, в кино не нравится. Я себя чувствую какой-то неполноценной. Приезжай скорей, мой любимый, и мы пойдем с тобой, куда только пожелаем».
На третий день нашего знакомства мы поехали вместе в Загорск. Я люблю церкви, хоть и мало осталось на нашей земле храмов, где еще сохранился огонек веры и сострадания, что еще несут людям тепло надежды и успокоения. Я молюсь иногда за всё хорошее и верую тайно.
Кругом монастыря лежал чистый снег, и купола светились золотом и солнцем. В темном Троицком соборе возвышенно и скорбно пел церковный хор, строгие лики святых смотрели на нас с рублевских икон, и тусклый свет негасимых лампад согревал душу покоем. Я плакала и молилась, я молилась за него и за себя, я еще не знала, люблю ли я его, но так хотелось, чтобы это была действительно любовь, и я молилась за нас и за нашу любовь. Высокое пение возносилось к куполу, и вместе со слезами вытекали из сердца горечь и тоска. Он стоял в глубине церкви и смотрел на меня серьезно и внимательно. Кончиками волос, затылком, спиной я чувствовала его взгляд, и еще сильнее хотелось молиться и верить. А потом в Патриарших сказочных палатах ударила гонгом в сердце та минута, которой я ждала и боялась, до сих пор не понимая, как это бывает, что вдруг становится ясно: да, это любовь, я люблю, люблю. Ни я, ни он, мне кажется, до самой той минуты не думали и не знали, как это произойдет. Это было, как вспышка, как веление свыше. Он набрал в ладонь святой воды и у икон всех святых провел пальцами робко и нежно по щекам моим и по лбу. Мы стояли молча, глаза в глаза, и я подумала, что в этот миг, в храме перед иконами, сам Господь Бог благословил нас и нашу любовь.
«…Когда долго нет от тебя известий, мне кажется, что ты ужасно далеко, в неизвестности. А это очень тяжело. Особенно, когда это касается самого любимого человека на свете. Береги себя».
Вечером того дня мы танцевали в баре. Мне так хотелось быть самой красивой – для него, самой нежной – для него, самой веселой – для него, самой обаятельной, самой умной – для него. Сердце стучало в груди и не принадлежало уже мне. Я знала, что я вся, до последней клеточки, безраздельно его, я любила его. Поздно вечером он пришел ко мне и остался со мной, и мы стали тайными мужем и женой.
«…Иногда, вечерами, я надеваю твое любимое платье и сижу одна или с кем-нибудь из своих соседушек-подружек, болтаем о том, о сем. Скорей бы лето! Мне один человек говорил, что я очень красивая, когда на меня падают солнечные лучи. А мне ужасно хочется быть красивой – особенно для него. Время летит быстро. И годы наши тоже летят, к сожалению, очень быстро. И остается жить только надеждой и ожиданием. Но если у человека отнять надежду на лучшее, тогда жизнь становится бессмысленной, пустой, неинтересной. А я все-таки счастливая, потому что у меня есть такая надежда, у меня есть близкие, родные люди, которых люблю я, и которые любят меня, и поэтому мне не страшно плыть в своей ладье по жизни, пусть ладье еще не полной, но в ней есть достаточно места для тех, кого там пока не хватает…»
IV
Зашумела, закрутила водоворотом будней Москва. Мы встречались с Иришенькой ежедневно. От тех дней осталось лишь размытое воспоминание потрясающей, ежесекундной эйфории любви. Мы не могли друг без друга. Мы то и дело звонили друг другу на работу, я встречал ее каждый вечер, дарил цветы, мы куда-то ездили, где-то бродили по улицам, говорили о чем-то важном и дорогом для нас, ходили в театр, на выставки, сидели в кафе, наслаждаясь нечаянным прикосновением рук и ног, глазами погружаясь в глаза. Мы бывали у моих друзей, она познакомила меня со своими подругами. Друзья говорили, что мы хорошая пара. Наверное, мы изменились и внешне, любовь возвышает душу, облагораживает и красит человека: на нас оборачивались на улице, незнакомые люди останавливались и говорили нам: «Берегите себя». Иногда я оставался у нее дома. Мы зажигали свечи и пили вкусное вино. Она надевала мое любимое платье, садилась за пианино, играла и немного пела. А я любовался ее лицом, ее пальцами, ее фигурой, и в те чудесные мгновенья нам обоим казалось, что мы нашли ту тихую пристань, к которой плыли всю жизнь. В Москве бульварами цвела весна, и той единственной, незабываемой весной, исстрадавшись от жажды истинной любви, мы припали к ее роднику и пили взахлеб, наслаждаясь жизнью и друг другом. Мы, как влюбленные нищие, украдкой срывали с древа желаний часы близости и были счастливы. Мир перестал существовать, мы остались одни на земле.
До сих пор, кружа в суете дел по Москве, я вдруг останавливаюсь невольно, и, как из далекого сна, проявляются в памяти ее сапфировые глаза, и сердце ноет: «Мы здесь бывали с Иришенькой».
Однажды вечером, когда я провожал ее домой, она сказала мне:
– Я всё рассказала мужу. Я сказала, что люблю другого человека. Я не могу с ним жить и не хочу обманывать. Я не могу и не хочу быть ни с кем, только с тобой.
И я сказал ей:
– Я ужасно люблю тебя, Иришенька, и больше всего на свете хочу, чтобы ты стала моей женой.
Господи! Сколько искренних клятв и обещаний дают люди. Если бы хоть сотая их часть исполнялась когда-нибудь, может быть, меньше было бы на земле страданий и одиночества.
«…Романтик ты мой любимый, твои письма для меня, как бальзам, живу только ими и мыслями о встрече. Постоянно думаю о тебе, разговариваю с тобой. Приезжай скорей, я очень жду тебя. И я в тебя очень-очень верю. И ты мне верь, пожалуйста.
…Нам тебя очень здорово не хватает. Особенно мне. Как будто половину отрезали. Иногда бывает очень тяжело. Сейчас уже поздно, двенадцать часов. Я на кухне, часы тикают, и мне кажется, что рядом сидишь ты, я так отчетливо вижу тебя и плачу…»
Она разводилась с мужем долго, мучительно, трудно.
А мне предложили на работе новое, почетное назначение: выезд в длительную, на несколько лет, командировку за границу.
V
– Не могу я отказаться, пойми, пожалуйста. Я ждал этой командировки много лет. Мое продвижение по службе, моя карьера зависят от этой поездки. Два-три года, и я вернусь, вернусь к тебе. И, кроме того, деньги. Ты посуди сама, Иришенька: нам начинать с тобой новую жизнь, нужно покупать квартиру, нужны будут деньги. За два-три года там я заработаю достаточно. Милая моя, бывает же так: муж уезжает в командировку один, жена ждет его. Ты ведь будешь меня ждать?
Я говорил, говорил, говорил… Она не плакала и не возражала, но мне было больно и стыдно глядеть ей в глаза, в которых застыла мука раненого насмерть животного. Я гладил ей волосы и целовал ее губы, и обнимал ее, и уговаривал ее, как маленькую девочку.
– Она тоже поедет с тобой?
– Меня не пустят без нее за границу, иначе нельзя. Но это ничего не значит.
Иришенька, радость моя, счастье мое, я ведь только тебя люблю, ужасно тебя люблю.
Лгал ли я ей или себе в ту минуту? Нет, наверное. Я, действительно, очень любил ее. Я никогда не обманывал ее ни единым словом. Я готов был отдать за нее жизнь. Я хотел, чтобы она стала моей женой, и верил, что мы будем вместе. Я любил ее нежно и бережно, боясь обидеть неосторожным словом. И знал, что она тоже любит меня. Мы часто говорили с ней, какое это редкое счастье, дарованное немногим, – взаимная любовь. Мы оба давно вышли из юношеской поры, когда любовь так же быстро гаснет, как и разгорается в сердце. Мы любили и сердцем, и умом, мы понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда, наши мысли, чувства, образование, даже опыт прожитой жизни были похожи, мы хотели счастья и понимали, как трудно оно дается и как легко его потерять, и склонялись над этим разгоравшимся огоньком, пытаясь защитить его от ветров жизни, и верили в него, и верили друг в друга. Я не лгал ей. Но все мои тридцать пять лет привитого с детства в мозг подчинения навязанным нам и впитавшимся в нашу кровь общественным нормам и правилам вставали на дыбы и не отпускали меня. У меня не укладывалось в голове, что я могу поступить по-другому, что именно сейчас я могу и должен развестись и жениться на суженой своей, потому что меня не то, чтобы не поняли, а просто отторгли бы, как сломавшуюся деталь, из слаженного чиновничьего аппарата, в котором я работал. Я будто не принадлежал себе. Словно существовали разные сферы, которые никогда не могли соприкоснуться: моя любовь к Ирише и какая-то условная мораль, нарушив которую, я не мог ни получить повышения по службе, ни работать за границей. Тогда я даже не задумывался о том, что само понятие морали перевернуто в нашем обществе с ног на голову, что аморально жить с нелюбимым человеком, а не развестись с ним, что правильно и нормально жениться на женщине, которую любишь, не боясь, что тебя осудят, изгонят, запрут в клетку недоверия и лишат того, чего ты достиг трудом. Неосознанный страх оступиться в глазах начальства и общества толкал меня по проложенному десятилетиями пути, на котором нельзя даже помыслить остановиться, задуматься и сказать нет. Рабская податливая сущность, воспитывавшаяся годами и вошедшая в плоть, умела лишь оправдываться, просить и соглашаться. Большинство из нас с детства и на всю жизнь заражены этой болезнью: мы движемся по заданному маршруту в соответствии с установленным расписанием и поворачиваем на стрелки и указатели, и боимся ступить лишний шаг и сказать лишнее слово, – а вдруг не положено. Десятилетиями строили нас в колонны и внушали: делай, как все, – и в своем бесконечном трубном марше мы привыкли слушать команды и разучились думать и принимать решения. Я искренне не понимал тогда, что может быть по-другому, что неладно, не так мы живем, если из страха перед инструкциями мы добровольно отказываемся от своего счастья и сравниваем вещи несравнимые, ставя на одну чашу весов любовь и будущую жизнь, а на другую – благоволение начальства и поездку за границу. Бедные люди, выцарапывающие зубами и когтями возможность работать за границей, вычеркивающие годы из своей жизни ради того, чтобы накопить денег на весь оставшийся свой век, забывающие нормальное человеческое общение и достоинство, говорящие на искусственном, суррогатном языке из нескольких слов: цены, вещи, купля, продажа. Они не виноваты в этом. Бедное, больное общество доводит их до состояния червей.
И я, как все, представлял себе диким отказаться от дарованной мне возможности. И говорил, говорил, говорил… И уговаривал себя и ее, что всё правильно, и по-другому поступить невозможно. И только спрашивал, постоянно ее спрашивал:
– Ты будешь ждать меня, Иришенька?
– Буду ждать. Я очень постараюсь тебя дождаться, – отвечала она.
А жизнь в это время уже готовила нам новые перекаты. Словно Бог до самого конца испытывал нас.
Меня вызвал секретарь партийной организации и показал мне бумаги, в которых говорилось, что я живу с женщиной, и разрушил ее семью.
Сколько лет, сколько поколений нужно давить человека, чтобы он боялся признаться в своей любви? Сколько людей и труда надо положить на то, чтобы воспитать в человеке постоянный страх говорить правду, научить его изворачиваться и лгать всем и самому себе, подличать и переступать через свое человеческое достоинство? Я был похож на бычка, которого ведут на заклание; у меня будто веревкой перехватили шею и тянули на поводу, то отпуская ее, то стягивая горло: я мычал и отнекивался, и, в конце концов, сказал, что мы с ней старые друзья, что нет никакой любви и быть ее не может. Вызывали и ее, и она повторяла мои слова. Вызывали, выпытывали, выспрашивали и раздевали донага наши души. Тогда я не задавался вопросом: какое они имели право врываться в нашу жизнь и копаться в наших сердцах. Мне казалось естественным, что с нами затеяли какую-то подленькую игру, где всё всем известно, но да не говорится, игру, в которой они спасали меня от самого себя, а я предавал и себя, и нас. Я должен был выбирать, и я выбрал то, что было предложено правилами игры. А в награду мне кинули разрешение выехать на престижную работу за границу. И, как верный пес, я схватил эту кость и благодарно завилял хвостом.
VI
Пришло и пролетело, прошумело грозами и угасло в осенних пасмурных днях короткое, жаркое лето. Оставался месяц до моего отъезда. Мы с Ирой поехали на несколько дней в Ленинград.
Я мечтал подарить ей весь мир. Я подарил ей мой любимый город. Я подарил ей гранитные набережные Невы и чугунные узоры мостов, я подарил ей сокровища Эрмитажа и замерший над Невой памятник Петру, и неистовых Клодтовых коней на Аничковом мосту, я распахнул для нее двери Казанского собора и Иссакия, я отворил перед ней дворцы и музеи, я расстелил у ее ног золотой ковер Летнего сада, я увлек ее в пересеченье улиц этого сказочного города и постелил его площади под ее каблучки, я провел ее по шумному Невскому проспекту и заманил в тишину уснувших парков. Я был счастлив, что она открыла для себя целый город и полюбила его вместе со мной. Друзья помогли нам снять маленький номер в гостинице на Невском, и впервые у нас появились ключи от нашего общего дома. Мы страшно гордились этим. Все наши тревоги и переживания остались в Москве. Мы забыли обо всем на свете, и мой отъезд казался нам далеким и нереальным.
Я никогда раньше не знал, какое это счастье – засыпать рядом с любимой женщиной и просыпаться вместе. Нам не надо было торопиться и расставаться, нам не надо было ждать вечера, чтобы увидеться вновь. На несколько дней мы освободились и выпали из круга бестолковой суеты и оказались вдвоем вне времени и пространства.
В парке Екатерининского дворца духовой оркестр играл Штрауса. Она сидела у меня на коленях, я крепко прижимал ее к груди и боялся отпустить даже на секунду, будто хотел спаять наши сердца. Вдоль царицыных прудов мы гуляли по липовым аллеям, а потом бежали на другую сторону дворца, чтобы увидеть, как заходящее солнце пронзает золотые ворота и, отражаясь в окнах, растекается по бирюзе дворцовых стен. Там, где золотые фонтаны Петергофа вливаются в Финский залив, мы бродили по парку, взявшись за руки. В кронах старых деревьев и в наших душах пели осенние скрипки, и опавшие листья кружились у наших ног и разлетались, как наши судьбы, гонимые ветром.
Это были самые счастливые дни в нашей жизни. Я часто думаю: для чего мы живем, для чего живу я? Хоть единожды в жизни каждый из нас, рождающихся и умирающих на этой земле, уходящих из жизни без следа, задается этим вопросом. И каждый человек, каждое поколение, каждое общество придумывает на него свой ответ, но конечной истины не существует. Мне казалось в те короткие дни, что истина открылась мне. Мне казалось тогда, что ради этой красоты вокруг нас, ради этих деревьев, ради этого воздуха и солнца в глазах любимой стоит жить, ради этого мы живем. Так мне казалось, потому что в те последние наши дни я дышал, я любил и я жил так полно и самозабвенно, как никогда ни раньше, ни потом.
«…Нам тебя очень не хватает. Тоскливо, грустно. Я всё время вспоминаю Ленинград, почему-то с этим городом у меня связаны самые светлые воспоминания. Каждый вечер, когда в программе „Время“ говорят погоду, я с трепетом слушаю, какая погода будет в Ленинграде. Я всё время вспоминаю потрясающие парки, особенно мне запомнился Павловский парк, не знаю почему, но тот вид, который открывается сверху, так и стоит у меня в глазах. Может быть, еще и потому, что это был последний день в Ленинграде, и хотелось впитать в себя как можно больше впечатлений, этой изумительной красоты, совершенства. Как здорово, что мы съездили в Ленинград, наш любимый город и нашу колыбель. Это ведь останется с нами на всю жизнь».
VII
Завтра последний день. Завтра он уезжает. Господи! Всемогущий Боже, только Ты один знаешь, как я измучилась, как извелась я. Сколько лет жизни я отдала, чтобы говорить, молчать и улыбаться, когда сердце кричит и рвется от боли и слез. За какие грехи, Господи, Ты посылаешь мне муку разлуки и одиночества? Почему всё так тяжко дается мне в жизни? Почему за свою любовь обязательно надо платить страданием? Почему так несправедливо устроен мир? Почему он – любящий и любимый, уезжает с другой, а я – жена его перед Богом, остаюсь одна? Почему всё так перевернуто в нашей жизни? Почему одни тупики кругом вместо дорог? Ответь, научи, Господи!
Прости меня, Господи! Я буду молиться за него. Я буду молиться, чтобы ничего не случилось с ним там. Я буду ждать его. Только хватило бы сил. Пошли мне сил и терпения, Господи.
Я могла бы удержать его, я знаю. Но он никогда бы не простил мне этого. Я могла бы заставить его развестись и оставить с собой, но я не хочу и ради нашей любви стать препятствием на его пути. Я не хочу, чтобы даже тень обиды или непонимания промелькнула когда-нибудь между нами. Я не хочу, чтобы однажды он мог упрекнуть меня, сказать или подумать: «Это ты виновата». Лучше засохнуть, как вырванный из земли цветок, чем это.
Завтра последний день. Я не представляю, как я смогу жить без его рук, без его глаз, без его слов, калекой, у которой отрезали половину сердца. Половинушка моя, зачем же ты уходишь, родной?
Завтра он уезжает. Завтра сомкнется круг, в котором я останусь одна, и всё станет неопределенно и зыбко: его любовь и мое положение оставленной жены или брошенной любовницы. Кто я ему, нужна ли я ему, кто я без него? Вот чего я страшусь более всего: неуверенности и сомнений, – и никого, пустыня вокруг, и только пустота, тоска, одиночество. Помоги, Господи!
Всё искажено и изломано, как в кривом зеркале, всё не так, как хотелось бы. Будто специально, будто искусственно придумывают для нас трудности, которые мы преодолеваем всю жизнь, ставят барьеры, которые мы должны перескакивать, и гонят нас, гонят неизвестно куда. Что гонит его, почему он должен уехать? И почему, если уж он уезжает, я не могу ехать с ним? Кто придумал, кто навязал нам эти дурацкие, нечеловеческие законы? Кто виноват в том, что рвутся сердца и судьбы, и любовь?
Прости меня, Господи! Я люблю его. Сохрани, Господи, нашу любовь.
Я всю жизнь ждала его. Я металась по жизни, я искала его и грешила, потому что его не было со мной. Я искала опору и поддержку, но его не было со мной. Я была одинока душой и свыклась с этим, и научилась оставаться одна, потому что его не было со мной. Пусть поздно он пришел ко мне, но я дождалась его. Я только успела привыкнуть к нему, я только начала чувствовать и думать, как он, я только стала понимать его и лучше узнавать себя. Мы уже дышали единым дыханием и мечтали вместе, мы хотели иметь детей. Мы любили и только начинали жить. Только-только… Что вы с ним сделали? Каким зельем одурманили его? За что, зачем вы отняли его у меня? В чем виноваты мы? В чем виновата наша любовь? За что нас так? Зачем?
Я люблю его. Я буду ждать его. Спаси и сохрани нас, Господи! Сохрани, Господи, нашу любовь.
VIII
«Любимый мой!
Я знаю: если у нас родится ребенок, ты его в зубах будешь носить. Я знаю: ты его всему научишь и всё расскажешь так, как только ты один умеешь рассказывать. Он вырастит таким же умным и добрым, как ты. Он будет похож на нас, он будет лучше нас. И я очень хочу, чтобы он был счастливым, чтобы он встретил в жизни свою любовь, такую же сильную, как наша».
«Милый мой, дорогой, любимый!
Вот я и вошла в свое привычное состояние: ты уехал, я осталась одна, опять жду тебя и твои письма и снова пишу тебе. Я по тебе скучаю, всё время о тебе думаю. Погода стоит холодная, почти каждый день дожди, сырость. Вот и сейчас за окном стучат капли дождя, я сижу на кухне и пишу тебе. И мне кажется, что на улице зима, настолько сильно мне врезались в память эти зимние долгие вечера, когда я вот также сидела на кухне и писала тебе, а в душе у меня творилось что-то страшное. Сейчас совсем иначе, я спокойнее, увереннее, но всё равно как-то не так себя чувствую, даже не могу объяснить. Опять эта неопределенность, непонятность и, в некотором отношении, безысходность. Мне не хватает твоего оптимизма, энергии, у меня на душе постоянно какая-то тяжесть, жизнь я перестала воспринимать с радостью, какая-то пассивность, депрессия, из которой я, как мне кажется, уже никогда не выйду.
Человек ко всему привыкает, даже к разлуке, и это начинает казаться естественным состоянием. Я уже привыкла к тому, что всё время тебя жду, жду, жду, и это бесконечно. И так, наверно, будет всегда, во всяком случае, очень долго. И я с этим смирилась, я стала какой-то другой, жизнь всё меньше и меньше меня радует, и ничего хорошего я от нее не жду. Твое письмо такое хорошее, оптимистичное, такое, как ты сам. Но мне всё равно очень грустно. Грустно и печально. И я даже не знаю, в чем основная причина. Не знаю. Всё как-то не так, как хотелось бы. Всё как-то перевернуто с ног на голову, какой-то сплошной идиотизм. То, что казалось бы, должно быть естественным и единственно правильным, недосягаемо или очень-очень далеко. Ты прости меня за мое такое мрачное настроение, но мне ужасно тяжело. И даже не потому, что ты уехал, а потому, что я перестала радоваться жизни, что-то во мне перевернулось. И не говори, что это усталость. Нет, это всё гораздо серьезнее. Только, ради Бога, не подумай, что я тебя разлюбила. Нет, я тебя люблю, и никого другого мне не надо в жизни. Но есть некоторые барьеры, через которые ни я, ни ты не можем переступить, и, видимо, они всегда будут между нами, и жизнь наша будет омрачаться бесконечными проблемами, решать которые я уже не в состоянии. У меня больше нет сил, ни душевных, ни физических. Я и так слишком много отдала, чтобы быть с тобой. Больше я не в состоянии еще чем-либо жертвовать, не могу, понимаешь, не могу. И не осуждай меня, потому что совесть моя чиста перед тобой».
«… Как сильно я соскучилась по тебе, любовь моя! Как мне тебя не хватает, как тоскливо и одиноко бывает порой, что просто слезы подступают. Я не гоню время, но мне кажется, что уже давно-давно я без тебя и еще долго-долго мне без тебя быть. Родной ты мой, никого мне не надо, только тебя я люблю, очень сильно, и письма твои перечитываю по сто раз, но мне надоело общаться с тобой письмами, я хочу тебя видеть, говорить с тобой, целовать тебя, чувствовать тебя рядом. Я знаю, что ты на это скажешь: «Подожди, Иришенька, еще немного». Конечно же, я подожду, судьба у меня, видно, такая: всё ждать и ждать и бороться за свое счастье. А сил всё меньше, но ты не думай, что я отступлю. Ты приедешь, и всё встанет на свои места. Вместе будет легче. Ты мне очень нужен. Почти каждую ночь ты мне снишься, сегодня приснилось, как будто мы в «Березовой роще», лето… Я живу прошлым и будущим, а мне хочется жить еще и настоящим. Без тебя я живу наполовину. Тяжело. Знаю, что и тебе без меня плохо. И поэтому хочу, чтобы поскорее ты приехал домой. И жду тебя очень-очень!
Я что-то очень стала уставать. Может быть, погода меняется, или это усталость накапливается, но часто стала кружиться голова, сплю со снотворным, нервы – никуда. Приезжай скорее, и я буду совсем другой…»
«Родной мой, любимый, единственный!
Я снова в Софрино. Рука не успевает за моими мыслями, любовь моя, счастье мое. Как сильно я люблю тебя, мне надо как-то это сказать, пусть пока я не смогу отправить тебе этого письма, потом ты все прочитаешь, когда приедешь. Я жду не дождусь этого момента. Если бы ты только знал, как я по тебе скучаю, тоскую, плачу каждый день, ты бы всё бросил и примчался бы ко мне, милый мой, единственный. Я знала, что будет плохо без тебя, но не думала, что это будет так плохо. Просто невыносимо. Но я буду ждать, столько, сколько надо. Я готова ждать тебя всю жизнь, потому что без тебя и без надежды, что я буду с тобой, я умру.
Нас поселили в старом корпусе. Я готова целовать дверь номера, в котором ты жил, целовать здесь каждую веточку и тропинку. Я не знаю, хорошо это или плохо, что я все-таки сюда приехала, но ты везде со мной, где бы я ни была, я всё время ощущаю тебя рядом, говорю с тобой, целую тебя и очень-очень переживаю за тебя. Я так хочу, чтобы у тебя, у нас всё было хорошо, чтобы мы были вместе на всю жизнь. Я люблю тебя. И сейчас чувствую, что без тебя я просто не могу, что живу я воспоминаниями и надеждой на будущее, а без тебя я просто существую. Любимый мой, нежный, самый удивительный! Никого я даже замечать не хочу, никого даже рядом с тобой не могу поставить. Я такая счастливая женщина. Даже тех минут, что мы были вместе, достаточно, чтобы быть всю жизнь счастливой. Но мне этого мало. Я должна быть с тобой всегда, любить тебя всегда, заботиться о тебе всегда, родной мой. Приезжай…»
«… Настроение у меня прыгает, как стрелка барометра. То я такая счастливая, веселая, то, наоборот, грустная, тоскливая, мрачная. А всё из-за моего дурацкого неопределенного положения. И нет этому конца. Сколько же еще ждать, один Бог знает. Как ужасно иногда складываются обстоятельства, как сильно приходится страдать. Но, наверное, действительно счастье познается через страдания. Только когда оно будет, это счастье? Пиши мне почаще. Только твои письма помогут мне. Береги себя, очень прошу.
…Я всё время молю Бога о твоем здоровье и о твоей работе. Каждый день и каждую ночь я прошу об одном и том же: чтобы все мы и родные наши были здоровы, и чтобы не случалось с нами несчастий. А всё остальное придет. Нужно только немного подождать и потерпеть, правда?..»
…Она не дождалась его. В один из мартовских снежных дней, когда ярко светило солнце, и голубизной сияло небо, она наложила на себя руки.
IX
Павел Петрович сидел на кухне в московской пустой, чужой квартире и писал письмо. За несколько месяцев после его возвращения что-то сместилось в его сознании, и порой он не различал прошлое и настоящее, память вырывала куски из ушедших дней и превращала их в день сегодняшний. В его уставшем от бессонницы и непонимания мозгу перемешались события и люди, и живые казались ему призраками, а умершие жили рядом с ним.
«Любимая, единственная моя Иришенька!
Странное, двойственное чувство не покидает меня. Наконец-то я дома, а дома нет у меня. Наконец-то я вернулся к тебе, моя женушка, а тебя нет рядом со мной. Будто я ошибся во времени, и чужие люди окружают меня, а тебя нет со мной; будто я что-то перепутал и ищу тебя не там, а ты меня ждешь где-то; будто я забыл заветное слово: я зову тебя, а ты не откликаешься. Я хожу по нашему с тобой городу, и ты идешь рядом, но я протягиваю руку, чтобы обнять твои плечи и прижать к себе, но не нахожу тебя. Я вижу всюду твою улыбку и бегу к тебе, но она растворяется в воздухе. Я слышу ежесекундно твой голос, но ты где-то далеко, так далеко, что не видишь и не слышишь меня. Я силюсь понять и не могу: я вернулся к тебе, моя любовь, а ты прячешься от меня в этом большом, темном городе и не узнаешь меня. И в то же время ты где-то постоянно рядом, потому что я узнаю твои шаги в соседней комнате, я замечаю твое лицо в толпе прохожих, ты зовешь меня ласково и нежно, а потом исчезаешь вновь. Я знаю, что ты здесь, но почему же ты не хочешь видеть меня, моя половинушка? Эти годы я жил и дышал наполовину, и никто не догадывался, что у меня лишь половина сердца, а вторую я оставил тебе, но я вернулся, а ты не приходишь ко мне, и некому заполнить пустоту в груди. Что-то нехорошее происходит со мной, какая-то главная струна оборвалась в моей душе, и только ты могла бы объяснить, что со мной. Я перестал любить жизнь. Я будто потерял ключ к этой жизни и теперь никогда не смогу войти в нее, а ты не хочешь мне помочь и прячешь этот ключ у себя. Я не могу жить без тебя, цветочек мой аленький, я гляжу на людей и не вижу их, я никого не хочу видеть, кроме тебя. Я смотрю на мир незрячими глазами, краски пожухли в нем, и он стал черно-белым. Я закрываю глаза, и только тогда ты возвращаешься ко мне и целуешь меня, как прежде, и я боюсь открывать их, боюсь снова потерять тебя. Я закрываю глаза, и в моей голове начинает звучать и петь райская мелодия, под которую мы танцевали с тобой, и я прижимаю тебя к своей груди так крепко, будто навеки хочу спаять наши сердца, и маленький мой обрубок бьется сильнее, и я понимаю, что еще живу.
Я ищу и не могу найти тебя, мое счастье. Без тебя я перестал понимать себя и свою жизнь. Вместе с тобой что-то главное во мне самом ушло безвозвратно, без тебя что-то потеряно навеки: зрение, слух, смысл. Для чего я живу? Мы приходим в этот мир с надеждой одарить себя и человечество самим своим появлением на свет. Но человечество не нуждается в нас и даже не знает о нашем существовании. Да и что мы можем дать человечеству, когда мы себя не умеем сделать счастливыми. Мы дороги двум-трем людям на свете, но и они уходят из жизни, и когда придет наш черед умирать, никто на земле не вспомнит о нас и не помянет добрым словом. Мы прокатываемся, как волны, по жизни один за другим и разбиваемся о последний берег, не задерживаясь в памяти людской. Выходит, нет у человека, этого божьего творения или чуда природы, иного, высшего предназначения, чем есть, спать, двигаться и удовлетворять свои биологические потребности до тех пор, пока не кончится завод в его организме? Лишь для этого я живу? Я не хочу, не могу так жить. Мне кажется, что всё-таки есть, должен быть какой-то иной, может быть, христианский смысл в нашем существовании. Но на добро люди отвечают злом, да и чем я могу быть полезен людям и чему могу их научить, если сам давно кручусь вхолостую, как ненужная шестеренка, выпавшая из механизма.
Я всегда считал себя добрым человеком и не хотел никому зла, но приносил только боль и страдание близким моим. Почему так? Или недостаточно быть только добрым человеком? Для чего же рождается и умирает человек на этой земле? Для себя, для семьи, для любви? С тобой, Иришенька, я потерял и любовь, и семью, и себя. Оказалось, что главным и единственно верным в моей жизни была ты, а остальное было ненужным и неважным. Жизнь – это калейдоскоп дел, событий, лиц, встреч и утрат, мыслей и чувств, из которого память сама выбирает и прячет самое ценное: плохое или хорошее, но самое важное в человеческой жизни. Моя память сохранила лишь недолгие наши счастливые дни и нашу любовь, твое лицо и твою улыбку, тебя – любящую и любимую, – и твои письма. Кроме этого не осталось ничего, стерлось – никчемное и пустое – без следа.
С тех пор, как я уехал, Иришенька, я всё время топчусь на месте в каком-то тупике. Передо мной глухая стена, а обратно вернуться невозможно. Горько сознавать, пройдя жизнь до половины, что прожил ее не так, что ничего не совершив, ничего не открыв, оказался один в тупике. По чьей вине? По своей ли, по чужой? Страшно понимать, что даже если рухнут вокруг нас стены и распахнется над нами небо, и не надо будет бояться и прятаться, и дадут нам, наконец, просто дышать, любить, искать, творить и жить, то останется самая высокая, прессовавшаяся по песчинке, возводившаяся годами по кирпичику стена – внутри нас, через которую уже не перелететь никогда на наших подрезанных с детства крыльях. Нас еще хватит на то, чтобы задуматься, как мы могли так жить, но переделать себя уже не сумеем, и тем больнее мы – духовные холопы – будем корчиться от осознания своего бесплодия и бессилия и бежать по инерции на месте до конца дней своих.
Я верю, что придут новые поколения, лучше, добрее, сильнее и счастливее нас, которые с рожденья смогут без страха, гордо, достойно и честно смотреть в лицо жизни, но не мы, но не я.
Я так любил жизнь, я так любил солнце, воздух и лес, я так любил тебя. Я жил мечтой и надеждой. Но, наверно, я всего лишь мечтатель, и всё это я придумал: и солнце, и воздух, и лес, и тебя. Нет ничего этого: солнце погасло, лес повырубили, воздух загадили, ты ушла. И нечем дышать, и не для чего жить. И осталось только рвануться к тому последнему берегу и выпасть навсегда из памяти людской.
Прости меня. Прощай, моя любовь».
X
Павел Петрович не умер. Я часто встречаю его в соседнем пивном баре, что стоит на бульваре за церковью. Это безобидный спившийся старичок. Обычно он сидит один в дымном углу и пьет кружку за кружкой, ни с кем не вступая в разговор. Как-то по дороге в бар я увидел его у церковной ограды. Он стоял, сняв шапку, но в церковь не заходил.
– Дядя Паша, ты что, верующий? – окликнул я его.
Он обернулся в мою сторону, но словно меня не узнал. На глазах у него были слезы. Он стоял так долго, будто молился про себя за оградой, потом повернулся и ушел куда-то в сторону. Что же, пусть стоит, смотрит, никому он не мешает.
Через несколько дней после этой встречи мы сидели в баре за одним столом, и он неожиданно заговорил со мной, как бы продолжая начатый разговор:
– Каждый человек должен верить, любить и надеяться. Иначе он не человек, не человек в высшем смысле этого слова. Много чего у нас в жизни отнято, еще больше потеряно по собственной глупости и трусости. Но даже если любовь осталась только в воспоминаниях, а надежды нет никакой, веру человек до последнего вздоха нести обязан.
– Дядя Паша, а ты крещеный?
– В том-то и дело, что нет, – с какой-то пьяной силой ответил он. – Хотел когда-то покреститься, а теперь поздно. Была когда-то женщина, которая молилась за меня, да нет уже ее.
С этого разговора мы стали ближе с Павлом Петровичем. Он рассказывал мне за кружкой пива про далекие страны, в которых бывал когда-то, особенно любил почему-то вспоминать об Африке, но странно: казалось, что ему и приятно, и больно говорить об этом. Врал, конечно, но слушать его было интересно.
Часто, сидя в своем углу за залитым пивом столом, он вынимал из кармана трясущимися руками какие-то замусоленные старые конверты и, шевеля губами, перебирал их, гладя пальцами, как делают слепые, будто читал про себя то, что хранилось в каждом из них.
Потом он доставал чистый лист бумаги, аккуратно клал его на стол, выбирая сухое место, и писал всегда только несколько слов – всего одну строчку. Написав их, он поднимал выцветшие глаза и смотрел через стол, через зал, будто пытался разглядеть далеко за стенами пивного бара что-то такое, что мучило его давно и не давало покою.
Однажды я случайно подсмотрел то, что он пишет. Это было начало письма:
«Любимая, единственная моя Иришенька!»
Анино счастье
I
Аня гуляет за домом в саду и улыбается. Как же хорошо дома. Мама выглядывает в окно, отец командует приказчиками в лавке, дедушка дремлет в кресле, младшие братья, Коля и Гриша, играют в комнатах. Еще года не прошло, как она окончила гимназию, а будто давно-давно. Только фотография в гостиной, где Аня в гимназическом платье, напоминает о строгих годах учебы. Как тепло светит солнце. Их вишневый сад в цвету. Белый аромат кружит голову, и мысли мешаются в голове, одна приятнее другой. Сегодня опять придет Миша, и они будут пить чай в столовой. Скоро лето, сад нальется вишней, и они станут собирать ее в сверкающие медные тазы. Дедушка постарел. Когда Аня была маленькой, он звал ее к себе: «Аннушка, расчеши мне волосы. Я тебе денежку дам». А она смеялась, потому что знала: дедушка быстро заснет, и она побежит играть в сад. Это дедушка построил их дом и подарил его маме на свадьбу. Большой дом, крепкий, бревенчатый, в самом центре Суздаля. А на фасаде его вензель, три буквы «А» – Аронов Андрей Андреевич.
Миша приходит к ним каждый день. Он старше ее на два года и окончил коммерческое училище. Они знают друг друга с детства, их дом стоит на въезде в город. Теперь он совсем взрослый, и когда она его видит, так начинает биться сердце, что становится боязно, как бы кто ни услышал. Аня старается быть серьезной при нем, но хочется улыбаться без причины. Маленькая, худенькая, с собранными бантом в пучок на затылке каштановыми волосами, она кажется девочкой-гимназисткой рядом с ним.
– Аннушка, Аннушка, – зовет в окно мама, – иди скорей, Миша пришел.
Мишины волосы расчесаны на прямой пробор, брови вразлет, губы немного пухлые, карие глаза притягивают к себе.
– Сейчас я отца позову, – говорит мама и выходит за дверь.
Миша стоит неестественно прямо, Аня замерла на пороге и уже догадывается.
– Анюта, я уже сказал Варваре Андреевне. Я хочу сделать тебе предложение. Ты согласна?
Анино сердце стучит и рвется из груди, и она чуть слышно отвечает: «Да».
Они так и стоят, не шелохнувшись, и смотрят друг другу в глаза, когда приходят отец с матерью. Петр Петрович снимает икону с образов: «Благослови вас Бог, дети». Мама вытирает слезу.
До венчания оставалось недолго, женщины хлопотали и суетились, а в центре этой суеты была Аня. Она все эти дни не выходила на улицу, примеряла свадебное платье и беспрестанно улыбалась. «Ну что я, как дурочка, надо быть посерьезней», – говорила она себе. «Он самый хороший, самый добрый, я его люблю», – и не могла не улыбаться своим мыслям. Иногда хотелось остаться одной, и она выходила в сад. Вишневые деревья склонялись над ней свадебными лепестками и благословляли ее.
В церкви пахло ладаном и свечами. За Аниной спиной чинно стояли родственники и знакомые, но она лишь ощущала их присутствие, смотрела прямо перед собой на золотую рясу венчавшего их батюшки и только потом почувствовала, как Миша поднял ее руку и надел на палец кольцо.
Жить они стали в доме Мишиных родителей. Дом был каменный, двухэтажный и выделялся среди соседских построек. А семья была большой: Мишины родители и шестеро его братьев и сестер. Их с Мишей комната Ане понравилась: светлая и уютная.
Клонился к своей середине четырнадцатый год. Они отправились в свадебное путешествие: сначала в Москву, потом в Варшаву. Больше всего запомнилось Ане, как они фотографировались на Кузнецком мосту. Эти снимки сохранились на всю жизнь и на фотографических карточках, и в ее памяти. Она сидит в светлом платье с кружевами, а ее запястье обвивает Мишин свадебный подарок – золотые часы с бирюзовой каемкой и бриллиантами. Он стоит рядом в модном костюме, при галстуке, серьезный, родной.
Когда они вернулись в Суздаль, объявили мобилизацию, и однажды Миша пришел домой в мундире прапорщика. Мундир ему очень шел, но было тревожно на душе.
Через несколько дней началась война. Вечером они сидели, обнявшись, в гостиной. Аня положила ему голову на плечо и притихла. Молчал и Миша. А наутро он прижал ее к себе, поцеловал и уехал на фронт.
II
Из дневника Анны.
Теперь я стала Аней Жилиной. Но, Боже, как недолго мы побыли вместе. После нашего расставания Мишин отец позвал меня к себе и сказал:
– Если хочешь, возвращайся к родителям. Неизвестно, когда кончится война. Решай сама, но знай: это теперь и твой дом.
Когда я пришла навестить своих, они сидели во дворе за большим столом, а посередине кипел самовар. Мне припомнилась давняя история из детства: мы так же сидели перед домом, и кипел самовар, когда к нам ворвался какой-то мужик, схватил самовар вытянутыми руками и убежал. Его так и не догнали, но мы часто потом смеялись над этим случаем.
Я обняла отца, мать, братьев, дедушку и присела рядом. Разговор не клеился. Наконец, отец спросил прямо:
– Ты там останешься или домой вернешься, пока он воюет?
– Я буду к вам приходить, но жить буду в доме своего мужа. Так будет правильнее.
На том мы и попрощались.
Когда я сказала об этом Александру Васильевичу, Мишин папа потеплел лицом и ответил:
– Вот и хорошо, дочка. Будем ждать вместе.
В семье меня приняли с любовью. Да и люди они были хорошие: добрые, приветливые. Я подружилась с Мишиными сестрами и эту дружбу сберегла на всю жизнь. По воскресеньям мы семьей ходили в церковь, и прохожие смотрели на меня с уважением. Я – жена офицера русской армии. Я чувствовала гордость и беспокойство за него. Но верила: все будет хорошо, скоро кончится война, и он вернется ко мне. Все говорили: «К рождеству война кончится». Осталось подождать совсем немного. Настроение у меня менялось ежечасно: то я бродила по дому бесцельно, и мне старались не мешать, то вдруг я понимала, что нужно немедленно пойти в церковь и поставить свечку за здравие, то я подходила к Мишиной старшей сестре Варе и говорила: «Варюша, посиди со мной».
Писем не было долго. Когда от него пришло первое письмо, я боялась его распечатать, я целовала его и носилась, как сумасшедшая, по дому: «Идите сюда скорее. Миша письмо прислал». Наконец, мы все уселись в гостиной за круглым столом. Я присела ближе к изразцовой печи, меня всю трясло. Александр Васильевич раскрыл письмо и начал читать:
«Здравствуйте, родные мои. Пишу это письмо, а перед глазами у меня выплывают из памяти ваши любимые лица и наш дом. Я немного пообвыкся на фронте. Война – это совсем не то, что вы себе представляете. Снаряды, верно, летают, но не так уж густо, и не так уж много людей погибает. Война сейчас вовсе не ужас, да и вообще, – есть ли на свете ужасы? В конце концов, можно себе и из самых пустяков составить ужасное, – дико ужасное. Летит, например, снаряд. Если думать, как он тебя убьет, как ты будешь стонать, ползать, как будешь медленно уходить из жизни, – в самом деле, становится страшно. Если же спокойно, умозрительно глядеть на вещи, то рассуждаешь так: он может убить, верно, но что же делать? – ведь страхом делу не поможешь, – чего же волноваться? Кипеть в собственном страхе, мучиться без мученья? Пока жив – дыши. К чему отравлять жизнь страхом без пользы и без нужды, жизнь, такую короткую и такую непостоянную? Да потом, если думать: „тут смерть, да тут смерть“, – так и совсем страшно будет. Смерть везде, и нигде от нее не спрячешься, ведь и в конце концов все мы должны умереть. И я сейчас думаю: „Я не умру, вот не умру, да и только, как тут не будь, что тут не делайся“, и не верю почти, что вообще умру, – я сейчас живу, я себя чувствую, – чего же мне думать о смерти».
– Аннушка, возьми письмо, почитай одна. Дальше Миша пишет тебе.
Наталья Гавриловна шептала: «Слава Богу, жив. Слава тебе, Господи». Варя, Даша и Лиза вытирали слезы. Маленькая Фроня притихла. Старший брат Саша смотрел на отца, и я знала, что он переживает из-за того, что по зрению его не взяли в армию. Младший Андрей мечтательно улыбался, он заканчивал артиллерийское училище и с нетерпением ждал, когда его призовут. Александр Васильевич прятал радость за строгим лицом и напоминал мне Мишу.
Дрожащими пальцами я взяла письмо, извинилась и побежала к себе в комнату.
«Анюточка, любимая моя женушка. Я уже очень хорошо знаю тебя и знаю, как ты беспокоишься и прячешь в душе свою тревогу. Не печалься и не переживай обо мне. Я вернусь, обещаю. Ты у меня есть, и я просто не могу исчезнуть из нашей жизни. Я пишу это письмо в своей хибаре, а вижу твои глаза, глубокие и большие твои глаза. Будто ты рядом и глядишь на меня. Помнишь, перед вашим домом росли анютины глазки? Я забыл тебе сказать: теперь это самые любимые мои цветы. Ты самая хорошая, самая добрая, самая красивая».
Я прижимала письмо к груди и к губам и перечитывала его много раз и много дней. Ко мне вернулась уверенность и на время спокойствие.
Подошло рождество, а война все не кончалась. На фронт ушел Андрей, и в доме стало необычно тихо, неуютно и неспокойно, хотя в семье никто об этом не говорил. Как цветок распускается и тянется к солнцу, так и я оживала вместе с каждым его письмом.
«Находясь на позиции в сочельник вечером, я как-то невольно мыслями переносился к вам: сначала суетня на улицах, потом постепенное прекращение уличной сутолки, и, наконец, начинается звон в церквях, какой-то торжественный, праздничный, начало службы великим повечерием и вот уже всенощная. Народ по окончании высыпает из церквей и расходится в радостном, праздничном настроении. Здесь же было совершенно тихо и у нас, и у немцев, и даже в воздухе. Ночь была звездная и нехолодная, и эта тишина особенно нагоняла грусть, и сильнее чувствовалась оторванность от вас».
А я молилась за него, за спасение близких, за победу над врагом и скорейшее окончание войны. Что мне оставалось? – ждать и молиться.
III
Из дневника Анны.
До самой смерти я не забуду этот день. Мы обедали в столовой, когда распахнулась дверь, и вошел он. Миша остановился на пороге, и тогда все пришло в движение. Я бросилась ему на шею, Варя, Даша и Лиза повисли на нем с двух сторон, Фроня вцепилась в мундир, Саша схватил его за руку. Александр Васильевич встал и застыл, Наталья Гавриловна уронила руки и заплакала. Миша нас всех целовал и улыбался, потом прижался к матери и обнял отца.
– Ты надолго, сын? – первым вымолвил слово Александр Васильевич.
– В отпуск на две недели.
Эти слова занозой кольнули голову. «Только на две недели? Как же так? Ведь я не видела его почти целый год».
– Мишенька, садись за стол или ты отдохнуть хочешь? – спросила Наталья Гавриловна.
– Нет, нет, отдыхать потом. Дайте я на вас посмотрю. А где же Андрюша?
– В армии. Он артиллерист.
– Пишет?
– Да, шутит в письмах, наверно, чтобы нас успокоить. Пишет, что привык засыпать рядом с пушкой.
– Как на фронте? Рассказывай.
Миша сидел рядом со мной и говорил, а я не столько слышала его, сколько чувствовала. Он изменился. Не ко мне изменился, не совсем изменился, а что-то новое, военное появилось в нем. Куда делись его волнистые волосы? – он был наголо побрит. Усы, но не густые, делали его лицо старше и мужественнее. Подбородок был чисто выбрит и казался тяжелым. Взгляд стал спокойнее, но строже. Мундир и блестящие сапоги совсем превращали его в военного человека.
Мы все вместе вышли в сад. Снова цвели вишни, и это новое цветение вселяло в меня надежду на постоянство и бесконечность нашей жизни.
Пришла Мишина тетя, настоятельница Покровского женского монастыря, перекрестила его и благословила.
После вечернего чаепития мы поднялись с Мишей в нашу комнату и остались вдвоем.
Наутро пошли навестить моих родителей. Перед домом цвели анютины глазки. Потом гуляли по городу, и мне было приятно, как нас уважительно приветствовали на улице. Миша – боевой офицер, мой муж, самый прекрасный человек на свете, я брала его под руку и прижималась к его плечу.
В Воскресенской церкви, как и в день нашего венчания, отдавали свое тепло трепетные свечи, и голоса женского хора возносились к ангелам и просили о милости к нам. Народу было не очень много. Мы перекрестились перед алтарем и помолились, и поставили свечи за здравие наших родных и за упокой тех, кто не вернулся с войны.
Две недели промелькнули, как один счастливый блаженный миг. В последний вечер нас оставили одних в гостиной. Родные ступали тихо в своих комнатах, чтобы не помешать нашему прощанию.
– Мишенька, пиши почаще, пожалуйста. И я прошу тебя, очень прошу – береги себя. Я каждый день, когда ты был на фронте, молилась за тебя. Я буду молиться за тебя, я знаю, я верю, Бог сохранит нас.
Миша целовал мои губы, и было так сладко и надежно рядом с ним.
А на следующий день дом будто опустел и онемел без него. А я словно оглохла и спряталась в свой панцирь в ожидании. Я перебирала в памяти каждую минуту ушедших радостных двух недель, и оставались только вера и надежда.
Письма от Миши приходили и освещали нашу повседневную жизнь, как лучик солнца в окне. Может быть, я ошибаюсь, но они перестали быть такими светлыми, как прежде.
«…Мы совершали марш-бросок на передовую. Я хорошо знал эти минуты перед боем, когда при автоматической ходьбе у тебя нет возможности отвлечься, обмануть себя какой-нибудь, хотя бы ненужной работой, когда нервы еще не перегорели от ужасов непосредственно в лицо смотрящей смерти. Быстро циркулирующая кровь еще не затуманила мозги. А кажущаяся неизбежной смерть стоит все так же близко. Все существо, весь здоровый организм протестует против насилия, против своего уничтожения…»
«…Есть страх, который у человека парализует волю полностью, а есть страх иного рода: он раскрывает в тебе такие силы и возможности, о которых ты раньше не предполагал…»
«…Кто-то обезумевшим голосом громко и заливисто завопил: „У-рра-а-ааа“. И все, казалось, только этого и ждали. Разом все заорали, заглушая ружейную стрельбу. На параде „ура“ звучит искусственно, в бою это же „ура“ – дикий хаос звуков, звериный вопль. „Ура“ – татарское слово. Это значит – бей. Его занесли к нам, вероятно, полчища Батыя. В этом истерическом вопле сливается и ненависть к врагу, и боязнь расстаться с собственной жизнью».
Прошло полгода, и письма приходить перестали. Дом помертвел. Александр Васильевич каждый день просматривал в газетах списки офицеров, там печатали: такой-то убит, такой-то ранен, пропал без вести. Я не могла, я боялась брать в руки газету. Мы все бродили по дому, как привидения, и не решались сказать лишнее слово.
– Аннушка, ну погоди, успокойся. Всякое бывает: может быть, его часть перебрасывают, и некогда писать, или бои идут, или марш-бросок, – говорил мне Александр Васильевич.
Однажды он позвал нас всех к себе в кабинет, ткнул пальцем в газетную строчку и прочитал: «Прапорщик Жилин Михаил Александрович, пропал без вести». Голос его задрожал:
– Видите, не убит, не ранен, а пропал без вести. Значит жив, значит скоро даст знать о себе.
Нерадостным рождеством пришел к нам шестнадцатый год, протянулся черной тоской и сменился на год семнадцатый. Вестей от Миши так и не было.
Я ждала, я молилась, я ставила за него свечи в церкви, я не могла не верить, даже когда ловила на себе сочувственные взгляды родных. Я продолжала существовать, двигаться, делать какую-то домашнюю работу, но это была не я, а мой молчаливый двойник. Я настоящая спряталась до времени, я настоящая, по-прежнему, надеялась и жила этой надеждой, и ждала, и знала, что он обязательно вернется.
Отрекся от престола царь. В городе происходили перемены, появились какие-то Советы. Я была далека от всего этого, да и люди, как жили, так и продолжали жить.
В конце семнадцатого года вернулся домой Андрюша, наш бравый артиллерист. Он мне говорил, не переставая:
– Понимаешь, Анюта, поверь мне: на войне такое бывает, что представить себе невозможно. Например, видели, как офицер погиб в бою, а он – вот он, живой. А, может быть, в плен попал. Так ведь и там люди живут. А сейчас такая неразбериха творится, что и почта не ходит. Вернется Миша, вернется.
Мне было радостно его слушать, ведь он воевал, он знает. Вслед за ним меня успокаивали и родители, и сестры, и Саша: «Вернется, конечно, вернется». Я чувствовала всегда, что он жив, но пришла ко мне с этими словами какая-то новая уверенность.
Два месяца спустя Миша пришел домой. Он был жутко худой, небритый и отстраненный. Первым делом он пошел в баню, а потом проспал двое суток. Только после этого мы все собрались в гостиной, Миша переоделся в штатское, снова стал похож на себя самого и начал рассказывать.
– Шли бои за Вильну, когда меня ранило. Очнулся я уже у германцев. Так и попал к ним в плен.
Мы слушали, затаив дыхание, а я не отрывала от него сияющих глаз.
– Анюта, перестань на него так смотреть, – вставил Андрюша, – а то Миша сейчас расплавится от твоего взгляда.
– Ну, тебя, вечно ты со своими шутками. Миша, дальше рассказывай.
– Это было в начале шестнадцатого, и пробыл я у них почти год, а потом бежал.
– Как бежал? Как же это удалось? Ведь если бы поймали, расстреляли.
– Да, расстреляли бы. В войсках начиналось брожение, воевать устали все, и немцы тоже. И охраняли нас уже не так строго. Удалось как-то выбраться. Так и двигался на восток: ночью шел, днем прятался. Бывало по несколько дней есть было нечего. Позиции я обходил стороной, но было уже ясно: и с той, и с другой стороны никто больше не хотел стрелять, солдаты разбегались, война кончилась. Так и прошел я пешком всю Пруссию и пол России. Так и дошел.
Я смотрела на него и думала: «Бедный, сколько же ему перетерпеть пришлось. Родной мой, как я его люблю. Главное, что мы снова вместе, главное, что мы любим друг друга, как раньше, даже сильнее».
Над страной сгущались тучи, надвигалась буря, но в те дни мы не страшились ее. Казалось, что самое плохое позади, и мы старались не думать о том, что нас ждет завтра. Был только сегодняшний день, и он сулил нам счастье.
Наваждение
«Кто я, что я, только лишь мечтатель,
Синь очей утративший во мгле,
Эту жизнь прожил я словно кстати,
Заодно с другими на земле».
С. Есенин
ВСТУПЛЕНИЕ
Падал крупный снег. За окном было темно и неуютно. Мерное покачивание трамвая, кружащиеся на улице белые легкие хлопья убаюкивали Сергея и навевали приятную дрему. Трамвайное стекло прочно отгораживало его от холода и темноты, и сквозь первые снежинки крадущейся по земле зимы он неотрывно смотрел на проплывающие мимо, словно картинки в немом кино, светящиеся витрины магазинов и окна домов, не задерживаясь на них взглядом, не замечая торопливых пассажиров, не оборачиваясь и не вслушиваясь в их голоса. Трамвай представлялся ему маленькой лодкой, подхватившей и несущей его по морю большого города, от одной бухточки к другой. Сергей Васильевич Привалов любил эти поздние поездки в полупустом трамвае, ощущая приходящее к нему в эти минуты состояние потерянности во времени и пространстве. Ему нравилось смотреть из своего укрытия, как вихрится и успокаивается, шуршит и падает пушистый, бесконечный снег, так похожий на легкую бездумность – передышку от забот и суеты, наполнявшую его самого. Покачивающаяся неторопливость несущего его суденышка как нельзя лучше соответствовала его настроению.
Спешить ему было некуда. В доме, который он называл своим по привычке, его никто не ждал. Хотя были там и жена, и сын. С женой они не жили и не разводились, а сына любили и терзали, то ревностью, то ласками, каждый по-своему, так что в свои тридцать пять лет Привалов успел впитать в себя и детские внезапные слезы, и нехитрую ложь, и прорывающиеся вдруг замкнутость и отчужденность. Маленькая квартира и маленький сын стали для них тем ненадежным якорем, который еще удерживал на месте останки их разбитого в жизненных трясках и качках корабля, называвшегося когда-то любовью. Состояние подвешенности и неопределенности постепенно даже вошло в привычку, и так, как привыкают ко всему, Привалов давно привык к мысли, что жена не любит его, и он ее тоже, что деваться некуда, а надо жить, пусть без любви, двигаться, работать, вставать, ложиться, уходить и возвращаться, – каждый день, каждый день.
Сергей работал инженером в маленьком конструкторском бюро, получал два раза в месяц небольшую зарплату и вот уже больше десяти лет, с тех пор, как его распределили туда после окончания института, занимал все ту же тихую и невидную должность.
О будущем он старался не думать, иначе становилось слишком тоскливо, потому что оно представлялось ему ровным и однообразным до отвращения, как голая степь. Он старался не думать о прошлом: там остались друзья, которые незаметно разошлись в разные стороны, каждый в свою жизнь, там остались надежды, юношеская пылкость, влюбленность, мечты. Он знал, что ничего этого больше никогда не будет, ничто-ничто не повторится, и успокаивал себя тем, что все живут также, и гнал от себя, как назойливых мух, эти мысли, от которых становилось так тошно. Он старался не думать о своих родителях, к которым заезжал раз в месяц и, в свои тридцать пять лет, просил денег до зарплаты и никогда не отдавал, иначе становилось слишком стыдно за себя и за свою жизнь. Он давно уже не думал о любви, и те короткие, случайные встречи, которые иногда роняла ему жизнь, он принимал с благодарностью и уверенностью, что иначе и быть не может, а если и бывает, то очень редко с другими.
И он любил эту пустую черноту за окном, эту отрешенность мыслей и чувств, возможность забыться и только смотреть, не думая ни о чем, как кружится за окном снег.
Легкий аромат дорогих духов смутил его зазеркальный покой и оторвал от черного стекла. Он полуобернулся и увидел, что через проход напротив, как на другом краю пропасти, сидит молодая женщина: черноволосая, черноглазая, в короткой искристой шубке. Она сидела рядом и очень далеко и издалека улыбнулась ему. Сергей вздрогнул, как от удара током, и резко повернулся к окну. Теперь это темное стекло, ведущее в неизвестность, в никуда, стало для него спасительной возможностью снова спрятаться и убежать обратно в свои бездумные мысли. Но взгляд, помимо него самого, уже не блуждал по проплывающим мимо огням, выныривающим из темноты, а, как в зеркале, ловил отражение незнакомки. Она, кажется, потеряла к нему интерес и смотрела куда-то в сторону. С внутренним страхом и забытым желанием Сергей через силу оторвался от никчемного стекла и, чуть повернув голову, быстро посмотрел в ее сторону. Их глаза встретились. Словно ожегшись, он снова отвернулся к окну, но уже искал там ее лицо.
«Какая потрясающая женщина. И она смотрит на меня», – будоражно подумал Привалов.
В последние годы он разучился принимать решения, но научился анализировать себя и свои поступки. И теперь он лихорадочно думал, пытаясь унять непонятную дрожь в руках и ногах.
«Нет, она смотрит не на меня, она смотрит мимо меня. Кто я ей? Не красавец, не атлет, никто. А может быть, это та, что я искал и ждал всю жизнь? Может быть, еще не поздно все бросить, бросить эту пустую, постылую жизнь и начать все сначала? Ведь я еще на что-то гожусь. Ведь я еще могу себя показать, всем показать, и ей, на что я способен. Если бы такая женщина, как она, была рядом со мной, насколько по-другому, по-новому можно было бы жить, насколько полно можно было бы жить. Как будто из скромности или какого-то непонятного страха мы отщипываем от жизни только маленький кусочек и довольствуемся этим. Ведь она же у нас только одна – эта жизнь – а мы все пережевываем этот кусочек и трусливо считаем, что он и есть наша жизнь. Ведь она такая недолгая, а мы все нищенски выпрашиваем у нее какие-то крохи. Все живем, как будто в прихожей, и не осмеливаемся войти в комнату, все ждем, что нас туда пригласят, что главная жизнь впереди, ждем и топчемся в этой прихожей до самой смерти. И я как будто живу понарошку, люблю понарошку, работаю понарошку, будто я только пишу черновик, будто я ребенок и только еще учусь жить, а настоящая жизнь начнется потом. А ведь ее не будет, все останется, как есть, до конца.
Какая редкая женщина. Может быть, она и вправду смотрела на меня?»
И Сергей осторожно повернул взгляд в ее сторону. Женщина глядела куда-то перед собой, и вдруг ее профиль показался Привалову таким узнаваемым, словно, то ли вчера, то ли сто лет назад, в прошлой жизни, он целовал эту гордую, лебединую, тонкую шею.
«Чего же я еще жду? – жилкой забилась мысль и заколотилось сердце. – Быть может, это та единственная встреча, тот неповторимый, редкий случай, который дарит нам порой судьба, тот всплеск жизни, что перевернет все?»
Он уже не отрывал глаз от нее, а она смотрела в трамвайное пространство.
«Надо немедленно встать и подойти к ней и сказать хоть что-нибудь», – нервно подумал он.
Но ноги вдруг стали тряпичными, руки обмякли, лицо одеревянело, шея застыла, глаза заморозились, и лишь сердце стучало в грудь и сжимало виски. И тогда Сергей Васильевич Привалов с ужасом понял, что повседневное отсутствие слов и мыслей настолько прочно забило его кровь, мозг, язык и поры, что живое чувство, затерявшееся где-то в глубине души, уже не может пробиться наружу и обернуться в слова и поступки. Он ясно вдруг осознал, что все эти годы, прожитые по привычке жить, как все, постепенно, незаметно, вполголоса, вколачивали в него, как осиновый кол, неспособность жить, чувствовать, говорить и думать самостоятельно, и превратили его, в конце концов, из человека, каким он родился и должен был быть, в маленького, трусливого человечка.
«Наваждение какое-то», – суетливо подумал он.
«Надо что-то сказать, что-то сказать, – как молитву, повторял он про себя. – Что она красивая, что она мне нравится, что мне нравятся ее глаза, ее волосы, ее улыбка. Что же сказать?»
Но он уже знал, что никогда не скажет этих слов, потому что опять боится непонятно чего, потому что никогда никому не говорил он и не сможет сказать такие слова. Ему вдруг до спазм в горле стало обидно за себя, за то, что он никогда в жизни никого не любил по-настоящему сильно: ни жену, ни сына, ни родителей, ни даже себя. Ведь так не бывает, не может быть – это слишком жутко – никогда никого не любить и не быть любимым. И так захотелось хоть небольшого, но настоящего понимания, тепла, нежности, любви, счастья.
И тогда торопливо и воровато, оглянувшись через плечо, он снова взглянул на свою соседку и увидел, как с того края пропасти глядят на него и улыбаются ему ее глаза. Сергей почувствовал, как мускулы и кожа его лица напряглись, вобрав каждой клеточкой в себя эту улыбку. Он отчетливо понимал, что именно сейчас надо что-нибудь сказать, встать, улыбнуться в ответ, сделать какое-то движение, хоть что-то, иначе будет поздно, и не мог. Он резко обернулся к спасительному окну, пытаясь унять сумбур в голове и сердце. Он вглядывался в темноту, а перед глазами стояли ее лицо и ее улыбка.
Чей-то чужой голос объявил остановку, и на следующей надо было выходить. Медленно, как лунатик, Сергей встал и подошел к двери. «Если она сейчас выйдет, я с ней заговорю», – сказал он себе чуть ли не вслух.
Привалов вышел из трамвая. До дома оставалось пройти совсем немного вперед. И тут он опять увидел ее, совсем рядом, такую реальную и далекую, как сказка. Она неторопливо прошла мимо и завернула за угол.
I
– Извините, пожалуйста, подождите. Вы смотрели на меня. Мне ваше лицо кажется знакомым. Простите меня. Мы встречались когда-то?
– Наконец-то, Сережа. Узнал? А я все думала, узнаешь или нет? Даже обиделась на тебя. Подумала: не узнает, не подойдет, ну и ладно.
– Я не совсем понимаю, извините.
– Значит, не совсем узнал. Я – Таня Ларина. Вспомнил?
В уличной полутьме лица было почти не видно, но Сережа вспомнил профиль из недавнего трамвайного полусна и теперь понял, где он видел это лицо: в детстве, больше двадцати лет тому назад.
– Таня? Ларина? – робко повторил он.
– Ну да, Таня Ларина. Вспомнил? Мы с тобой сидели за одной партой до третьего класса, а потом еще встречались, забыл?
– Господи. Как же я тебя сразу не узнал. Еще подумал: профиль очень знакомый.
– Эх ты. А я тебя сразу узнала, только ждала, что и ты меня вспомнишь.
Только теперь, как из зыбкого детского сна, всколыхнулось далекое прошлое.
II
Мне было четыре года, когда из Эстонии, где работал мой отец, родители переехали в Москву. От Эстонии в воспоминаниях у меня остался только приятель Вася, с которым мы играли во дворе дома, и большая квартира с огромным коридором и стеклянными дверьми. Еще запомнился поезд, в котором мы ехали в Москву, и станция на пути с большим белым фонтаном. А потом мы поселились в Москве у бабушки, в одной комнате, со множеством соседей, которые меня всегда обнимали и приглашали в гости посмотреть никому не известный тогда телевизор с большой лупой перед экраном.
Я вспомнил с необычной ясностью то, о чем за последние двадцать лет никогда не думал: самую страшную печать детства – как в гробу, на улице, у подъезда лежит наш сосед дядя Вася с повязкой на лбу, – и лучшее детское воспоминание: как впервые, стоя под буквой «А» у порога школы, я увидел рядом маленькую черноволосую девочку – Таню Ларину.
С Таней Лариной меня посадили за одну парту. Я тогда был слишком маленьким, чтобы понимать, что это судьба, но я влюбился в нее по-детски, с первого взгляда. В тех младших классах ни она, ни я еще не знали, что Таня Ларина – это со времен Пушкина известное имя в России, мы сидели рядом за партой и нас вызывали к доске: «Таня Ларина, отвечай», «Сережа Привалов, встань».
Наверно, с ее стороны это тоже была влюбленность, потому что уже с первого класса она приглашала меня к себе в гости.
Как все одноклассники, мы жили недалеко друг от друга, дома были рядом, но уже тогда было понятно, что это разные дома. Таня жила в «сером» доме. Он занимал целый квартал и, действительно, был серого цвета, поэтому так и назывался.
Она меня как-то спросила:
– Ты читал «Королевство кривых зеркал?»
– Нет.
Я много слышал об этой удивительной книге, но, как мои родители ни старались, найти ее не могли.
– Пойдем ко мне. Я тебе ее дам почитать.
Тогда я впервые оказался в гостях у Тани – в «сером» доме. Квартира мне показалась огромной: прихожая, три или четыре комнаты, высокие потолки, красивая мебель и никаких соседей. Как потом я узнал, «серый» дом строился для ученых и генералов, они там и жили.
Я не знаю до сих пор, а тогда этим не интересовался, кто были Танины родители. Но Танина мать встретила меня приветливо:
– Сережа, здравствуй. Проходи в Танину комнату. Хочешь чаю, пирожного? Идите, я вам не буду мешать.
Почему-то в школе на переменах дрались все – наверно, так было издавна принято: и мальчики, и девочки – только не мы с Таней. Мы с ней бегали, мы играли, но никогда не дрались. Мне сейчас кажется, что это, действительно, была детская любовь: мы очень нежно и трепетно относились друг к другу.
Во второй раз я побывал у Тани на ее день рождения. К себе в гости она пригласила весь класс. Я помню, как мы, взявшись за руки, образовали круг, а в его центре стояла Таня.
«Как на Танины именины испекли мы каравай: вот такой ширины, вот такой вышины». Мы ходили вокруг нее хороводом, поднимали и опускали руки под слова песенки, а Таня стояла посередине и улыбалась.
Она была маленькая, подвижная, смуглая, черноволосая, умная и очень красивая.
Потом мы все сели за чайный стол и угощались тортами и пирожными.
– Прочитал «Королевство кривых зеркал?»
– Да, очень понравилось, вот возьми.
И я протянул ей книгу.
– А «Три толстяка» читал?
– Нет.
– Вот, держи. Тебе понравится.
Мы оба любили читать книги, и нам обоим нравилось потом обмениваться впечатлениями от прочитанного. Хорошие книги тогда были редкостью, но у Тани, в домашнем шкафу, были все самые лучшие, и я стал часто бывать у нее в доме: я приносил то, что прочитал, и брал то, что она мне давала. Можно было, конечно, и в школе брать у нее новые книжки, но почему-то она всегда приглашала меня к себе, а мне нравилось бывать у нее дома, сидеть на диване рядом с ней в ее комнате и вместе листать книги.
Ее мать всегда была приветлива и ласкова со мной, и не мешала нам оставаться вдвоем.
В те годы каждое лето мои родители вывозили меня к морю, в Феодосию. Там, в большом дворе, где мы останавливались каждый год, собиралось на отдых множество наших родственников и родительских друзей.
Не знаю, как так получилось, но однажды летом, в каникулы, Танины родители отпустили ее одну, со мной и моими родителями, в Феодосию.
Странно, как выборочна наша память. Я почему-то совсем не помню, как мы там с ней плескались в море, как проводили время во дворе дома, где жили, но очень хорошо запомнил, как, сидя на дощатом топчане на пляже, мы играли с ней в шахматы. Мне в это лето отец подарил красивые шахматы под слоновую кость, и мы с Таней играли в них каждый день. А еще я запомнил из того детского времени ее высокий лоб и черную косу и внимательные черные глаза, и умное приветливое лицо, и тонкую ее фигуру.
Я был тогда самым маленьким в классе, и высокие или толстые девочки пугали меня, а Таня была одного роста со мной, и может быть, поэтому у меня никогда рядом с ней не возникало, как теперь я понимаю, комплекса неполноценности. Мне всегда было хорошо с ней рядом: за партой ли, у нее дома или на море.
А три года спустя, мы с родителями переехали в новую квартиру, в новый район, и я перешел в другую школу.
Может быть, Танины родители так доверяли моим, но даже после этого мы еще раз провели вместе с Таней лето в Феодосии.
А потом я окончательно окунулся в новую школу и новую жизнь, и в новых друзей, и прошло несколько лет, прежде чем мы снова встретились с Таней.
Нам было лет четырнадцать.
В те годы было принято дружить школами. Та школа, где мы сидели за партой вместе с Таней, была известна в Москве. Там до войны училась героиня-партизанка Зоя Космодемьянская. И однажды нас повезли на экскурсию в эту школу. Ребята сидели в актовом зале и слушали рассказы про Зою Космодемьянскую и смотрели ее фотографии. А мы с Таней Лариной убежали ото всех и стояли вдвоем в полутемном школьном коридоре. Был уже вечер, и в школе было пусто: ни учеников, ни учителей. Она не спрашивала, почему я ей не звонил и не приезжал, а я, словно и не прошло этих лет, стоял с ней близко, так, будто мы всегда были вместе и только вышли на перемену, и думал, какая она красивая.
Таня вытянулась, но не выше меня, и приобрела девичьи формы. Мы стояли рядом в полутемном коридоре и молчали. Не надо было никаких слов, нам было хорошо и уютно вдвоем. Я осторожно обнял ее и прижал к себе. Она податливо и доверчиво прижалась к моей груди, и наши губы стали искать друг друга. Я еще никогда в жизни не целовался с девочкой, я не нашел ее губ и поцеловал ее в шею, тонкую, лебединую шею.
И с тех пор мы не виделись. Прошло двадцать лет.
III
– Таня, ты здесь живешь?
– Нет, я живу все там же, на «Войковской». А сюда езжу к своей модистке.
Странное, забытое слово – модистка. Наверно, его употребляют в разговоре только старые люди или аристократы. Таня была аристократкой. В детстве Сережа не задумывался об этом, несмотря на ее громкое имя, а теперь, глядя на ее вырисовывающееся в свете фонаря точеное, хрупкое лицо, Привалов вдруг подумал: как она изящна и аристократична.
– Я сюда часто езжу на примерку. Хочешь, пойдем со мной. Я ненадолго.
Сережа Привалов вдруг ясно понял, что никуда он больше не хочет торопиться, никуда больше не хочет идти без нее, тем более домой, а хочет пойти с ней, за ней, куда бы она его ни повела.
Сергей сидел в соседней комнате и терпеливо ждал, когда закончится примерка.
– Вот и я. Пойдем.
Когда они вышли на улицу, Сергей сказал:
– Я тебя провожу. Давай возьмем такси.
Они сидели в машине молча. Сергей кожей ощущал притягательное тепло ее бедра и ног и краем глаза видел, как она слегка улыбается в темноте.
Привалов давно не был в том старом районе, где прошло его детство. Он узнал «серый» дом, хотя теперь он ему показался меньше, чем когда-то. Было уже совсем поздно, когда Таня открыла дверь квартиры и, прижав палец к губам, сказала:
– Тихо, дочка, наверно, уже спит. Проходи, снимай пальто.
Когда они прошли в прихожую, Таня спросила:
– Хочешь на нее взглянуть? Пойдем.
И мягко ступая, они вошли в ту самую детскую, где когда-то вдвоем сидели рядышком на диване и листали книги. Там, где когда-то давно стоял диван, в кровати спала, улыбаясь во сне, девочка лет десяти. Она была смуглая и черноволосая, и очень красивая. Она, как две капли воды, была похожа на ту девочку из первых классов, с которой Сережа сидел за одной партой, и в которую влюбился с первого взгляда.
– Это Машенька, – гордо представила ее Таня.
В квартире больше никого не было. Они сидели вдвоем в гостиной и пили вино.
– О тебе не будут волноваться? – спросила она.
– Нет, я никуда не тороплюсь.
– Если хочешь, оставайся. Завтра суббота, на работу не идти. Я постелю тебе в соседней комнате. Ну, рассказывай: как ты жил эти годы, как ты живешь? Женат? Дети?
– Женат. Сына зовут Андрюша, он чуть младше твоей Машеньки. А ты?
– А я живу одна с Машенькой. Помнишь Алешу Петренко из нашего класса? Мы с ним развелись год назад.
– А твои родители? Я очень хорошо помню твою маму.
– Отец умер давно. Мама снова вышла замуж, мы с ней редко видимся. Где ты работаешь?
– Инженером в конструкторском бюро.
Сергею не хотелось говорить о том, что должность его и работа совсем не радуют его, что жена его только называется женой, но почему-то ему казалось в то же время, что, расскажи он Тане все, как есть, она поняла бы и не осудила бы его за его бестолковую жизнь.
– А ты чем занимаешься?
– Я – референт-переводчик в посольстве Дании.
– А какой институт ты заканчивала?
– Иностранных языков. Так что все неплохо. Как твои родители?
– Заезжаю к ним раз в месяц. Постарели сильно, но держатся, на дачу ездят каждое лето.
– А в Феодосии ты давно не был? Знаешь, я очень часто вспоминаю, как мы там отдыхали с твоими родителями. Мне так там нравилось.
– Езжу туда иногда. Там здорово. Два года назад вывозил туда сына. Ему семь лет было, столько же, сколько и мне, когда меня в первый раз туда родители повезли.
А ты помнишь, как мы с тобой играли в шахматы на пляже?
– Еще бы. Ты ужасно злился, когда мне проигрывал.
– Правда? Не помню.
– А помнишь, как мы всем классом мой день рождения здесь справляли?
– Конечно. Мы водили хоровод вокруг тебя, а я не мог оторвать от тебя глаз. Ты была такая красивая.
– Я постарела?
– Что ты, Танечка, извини. По-моему, ты такая же, какой я тебя помню.
– Ладно уж, не подлизывайся.
– А ты помнишь, как мы с тобой целовались в школе?
Таня как-то напряглась в своем кресле и внимательно и серьезно посмотрела на Сережу:
– Я все помню. Ладно, на сегодня хватит воспоминаний. Спать пора. Я пойду постелю тебе.
IV
Когда на следующее утро Сергей разлепил глаза, первое, что он увидел, это было улыбающееся Танино лицо, склонившееся над ним.
– Вставай, соня, завтрак готов. Одевайся, пойдем я тебя с Машенькой познакомлю.
Они прошли на кухню. На столе были аккуратно расставлены три тарелки с дымящейся яичницей и сосисками, хлебушек, приправа, а за столом сидела опрятная, черноволосая, смуглая девочка очень похожая на свою мать.
Она встала и поздоровалась.
– Познакомься, Машенька. Это дядя Сережа, мой старый друг.
– Здравствуй, Машенька. Мы давно с твоей мамой не виделись. И я очень рад, что встретил ее и теперь смог с тобой познакомиться.
– Вы вместе с мамой в школе учились?
– Да, в младших классах. А ты в каком классе учишься?
– В четвертом.
– Давайте кушать, садитесь за стол, – сказала Таня.
Когда встали из-за стола, Сергей предложил:
– Пойдем погуляем в Тимирязевский парк, я с детства там не был.
Они гуляли по заснеженным мелким пушком аллеям парка, Машенька убегала и возвращалась, смеялась и снова убегала.
– Сережа, скажи, пожалуйста, извини за прямоту, не обижайся, ты ведь даже не позвонил жене, что не придешь сегодня домой.
– Знаешь, Таня, я не хотел вчера об этом говорить. Мы живем вместе и не разводимся только из-за сына. Мы давно уже не спим вместе, только проживаем в одной квартире. Мы не говорили с ней об этом, но думаю, у нее кто-то есть. На самом деле, мне это абсолютно безразлично.
Таня слушала серьезно и внимательно, слегка наклонив голову.
– А у тебя тоже кто-то есть?
– Нет, Таня. Знаешь, я очень рад, что встретил тебя. И еще: прости, что не звонил и не приезжал к тебе все это время. Даже не знаю, почему, не знаю. Прости.
– Я очень ждала тебя. Ладно, не будем больше об этом. Я тоже очень рада, что мы с тобой встретились.
– Знаешь, лет двенадцать тому назад, еще до моей женитьбы, я ужасно вдруг захотел тебя увидеть. Я постоянно думал о тебе, хотя мы столько лет не виделись. Не знаю даже почему, но именно тогда я очень хотел встретиться с тобой. Я искал твой телефон в своих записных книжках, спрашивал у родителей, так и не нашел. А твою квартиру, после стольких лет, я бы, конечно, тоже не вспомнил. Это правда. Прости меня.
– Ты сказал: двенадцать лет назад. Да, мне было двадцать три года. Алеша Петренко давно ухаживал за мной, а я все не решалась выйти за него замуж. Теперь я понимаю, что просто не любила его. Прошел еще год, и мы поженились. А через год родилась Машенька.
– У тебя очень хорошая дочка. Она мне очень понравилась. Она очень на тебя похожа.
Сергей вдруг поймал себя на мысли, что и Таня ему очень нравится, и прошлая влюбленность ожила и забурлила в его сердце, и перевернула его мысли.
– Таня, у тебя какие планы на эти выходные?
– Никаких. Буду дома, с Машенькой.
– Я уеду часа на два. Нет, не домой. А потом вернусь к тебе, можно?
– Хорошо, Сережа. Мы тебя ждем.
Сергей поцеловал Машеньку и поехал в центр, в билетные кассы. Ему захотелось пригласить Таню в театр, и не в какой-то, а в Большой театр.
В кассе билетов на следующий день, конечно, не было. У входа стояли перекупщики.
– Есть два билета на завтра в Большой, на «Лебединое озеро»?
– Найдем.
Сергей вытащил из бумажника последние деньги и, как величайшую драгоценность, положил туда два билета на «Лебединое озеро».
По дороге он позвонил жене и сказал, что его несколько дней не будет, а потом снова поехал к Тане.
Таня открыла ему дверь, встревожено улыбаясь, и Сергею показалось, что он прочел ее мысли: «Вернется или нет?»
– Танечка, я тебя на завтра приглашаю в Большой театр на «Лебединое озеро», – чуть ли не с порога выпалил он. – Пойдем?
– Конечно, пойдем, Сережа. Проходи. Я уже беспокоиться начала, что ты так долго. Я ждала тебя.
Сергей прошел в гостиную. Выбежала Машенька:
– Здравствуйте, дядя Сережа. А куда вы уехали?
– Я за билетами ездил. Мы завтра с твоей мамой в театр пойдем.
– А я?
– Мы поздно пойдем. Ты спать уже будешь.
– Ладно, я играть пошла.
И убежала.
Сергей с Таней сидели в гостиной, Маша играла у себя в детской.
– Таня, я позвонил домой. Сказал, что не приеду. Можно, я у тебя сегодня останусь? Я не хочу уезжать.
– Оставайся, Сережа.
Вечером Таня постелила ему постель в соседней комнате, а ночью сама пришла к нему.
Следующим вечером, крепко держа друг друга за руку, они сидели в партере Большого театра и смотрели «Лебединое озеро».
Прошел месяц. Они стали жить с Таней вместе, и Сергей Васильевич Привалов подал на развод. Слава Богу, его жена не возражала и не закатывала истерик и скандалов. Состоялся суд. Бывшая жена пролила несколько слезинок в зале, и их развели.
С этого времени Сергей окончательно поселился в «сером» доме, и они с Таней официально оформили свои супружеские обязанности по отношению друг к другу.
V
Как-то после свадьбы Таня спросила Сергея:
– Сереженька, мне кажется, у тебя не все ладно на работе, я ошибаюсь?
– Танечка, мне не хотелось тебе об этом говорить и расстраивать тебя. Там все плохо. Я знаю, что умею и могу большего. Это трясина какая-то.
– Понятно. Зря раньше мне не сказал. Мой отец работал главным конструктором одного закрытого исследовательского института. Там его помнят и уважают, а меня знают. Я позвоню.
И уже через месяц Сергей Васильевич Привалов начал работать в новой должности в престижном научном центре. Новая работа была интересной, и теперь не приходилось считать, сколько денег осталось до зарплаты.
Машенька относилась к Сергею, как к родному отцу, а он очень любил ее и все вечера посвящал ей и Танечке. Своего сына Андрюшу он забирал к себе на выходные, и, кажется, Машенька с Андрюшей подружились. Они вместе листали книги, а Сергей вспоминал свое детство и свою маленькую Танечку Ларину.
Сергей сам понимал, как он изменился. Он стал принимать решения. Он выдвинул несколько новых идей на работе, и через несколько лет его уже назначили на место заместителя главного конструктора. Таня гордилась им, а он знал, что без своей Танечки, без своей школьной, на всю жизнь, любви, он никогда бы ничего не достиг и никогда бы не стал человеком.
А потом Таня взволнованно сказала ему:
– У нас будет ребенок.
ЭПИЛОГ
Сергей Васильевич Привалов ехал в полутемном трамвае, а через проход от него, как на другом краю пропасти, сидела незнакомая, черноволосая, черноглазая женщина и улыбалась ему, когда он робко поворачивал голову в ее сторону.
«Наваждение какое-то», – суетливо подумал он.
«Надо что-то сказать, что-то сказать, – как молитву, повторял он про себя. – Что она красивая, что мне нравятся ее глаза, ее волосы, ее улыбка. Что же сказать?»
Но он уже знал, что никогда не скажет этих слов, потому что опять боится непонятно чего, потому что никогда не говорил он и не сможет сказать такие слова. Ему вдруг до спазм в горле стало обидно за себя, за то, что он никогда в жизни никого не любил по-настоящему сильно: ни жену, ни сына, ни родителей, ни даже себя. Ведь так не бывает, не может быть – это слишком жутко – никогда никого не любить и не быть любимым. И так захотелось хоть небольшого, но настоящего понимания, тепла, нежности, любви, счастья.
И тогда торопливо и воровато, оглянувшись через плечо, он снова взглянул на свою соседку и увидел, как с того края пропасти глядят на него и улыбаются ему ее глаза. Сергей почувствовал, как мускулы и кожа его лица напряглись, вобрав каждой клеточкой в себя эту улыбку. Он отчетливо понимал, что именно сейчас надо что-то сказать, встать, улыбнуться в ответ, сделать какое-то движение, хоть что-то, иначе будет поздно, и не мог. Он резко обернулся к спасительному окну, пытаясь унять сумбур в голове и сердце. Он вглядывался в темноту, а перед глазами стояли ее лицо и ее улыбка.
Чей-то чужой голос объявил остановку, и на следующей надо было выходить. Медленно, как лунатик, Сергей встал и подошел к двери. «Если она сейчас выйдет, я с ней заговорю», – сказал он себе чуть ли не вслух.
Привалов вышел из трамвая. До дома оставалось пройти совсем немного вперед. И тут он опять увидел ее, совсем рядом, такую реальную и далекую, как сказка. Она неторопливо прошла мимо и завернула за угол.
Сергей Васильевич машинально сделал несколько шагов за ней, дошел до угла и долго-долго глядел ей вслед. Потом повернулся и медленно побрел в сторону дома.
Душа бабочки
Душа, как бабочка, перелетает с одного цветка на другой…
I
Мне было десять лет, когда я увидел ее впервые. Тогда я еще не мог понять, что это она. Я даже представить себе не мог, что она пришла только ко мне и останется со мной навсегда. Я еще не понимал, что она предназначена мне, а ей предназначено любить и страдать вместе со мной, во мне самом.
Был теплый, нежный южный вечер. С моря тянуло прохладой, ненадолго прогоняющей подступающую душную ночь. Я сидел на маленькой скамеечке и наблюдал за взрослыми.
В Феодосию мы приезжали уже в третий раз, и в это лето, в том же доме, собралось много наших родственников и знакомых.
Во дворе над головой горел фонарь, и когда я смотрел на него, мне казалось, что он вот-вот оторвется и уплывет вверх, в темноту звездной ночи, туда, где висит луна. Фонарь высвечивал круг, посередине которого стоял стол, а за границей яркого света – чернота, там страшно. Там глубокий колодец, из которого, если упасть, не выберешься никогда, и дощатый туалет в конце участка, куда ночью я не ходил, потому что он напоминал мне истории о синих руках, вытягивающихся из-под земли и хватающих всех, кто осмелится к ним приблизиться.
Я сижу на скамеечке, еще не подошло время отправлять меня спать, и просто смотрю вокруг. Я поднимаю глаза и вижу усыпанное звездами небо. Я знаю созвездия, папа называл и показывал мне их: вот Орион, вот Большая и Малая Медведица, вот Полярная звезда, вон Млечный путь. Я сижу на поляне фонарного полнолуния, и мне уютно и спокойно. Мужчины собрались за столом во дворе, выпивают понемногу и играют в преферанс. Женщины разошлись по комнатам, застелили постели и ждут.
Большая, серая ночная бабочка села мне на руку и замерла. Я взмахнул рукой, она отлетела и снова припорхнула ко мне. Она будто не замечала меня. Мне стало интересно: такая приставучая, такая большая и, несмотря на бледное одеяние, такая красивая. Она будто играла со мной: то отлетит, то снова приклеится к моей руке. Десятки ее подруг кружились вокруг фонаря. Она тоже улетала туда, на свет, стучалась о стекло, а потом возвращалась ко мне. Мне понравилась эта игра, и я пошире раскрыл ладонь. Мне показалось, что она очень доверчивая, нежная и не боится меня.
Я не хотел ее убивать. Просто сжал кулак, сам не знаю почему. Она сморщилась и упала на асфальтовый двор. И умерла, а я уже на следующий день забыл о ней.
II
Мне было двадцать лет, когда я познакомился с Машей. Мы сидели с ней в маленьком кафе на Пушкинской площади и ели мороженое, а я читал ей стихи по-французски. Она не понимала ни слова, и я тут же переводил. Я учился на переводчика на третьем курсе, она – на первом курсе педагогического факультета. Я изучал французский, она – немецкий. Я смотрел на нее с вожделением, она на меня – с трепетным восторгом. Мы встречались каждый день. Была зима, хрупкие снежинки таяли на ее щеках. Я провожал ее домой и тихонько нашептывал ей на ухо: Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir – Падает снег, ты не придешь сегодня вечером… И чувствовал ее близкое дыхание, готовое вылиться в поцелуй, и понимал, что она уже тает в моих объятиях.
* * * * *
Мы стали любовниками. Я звал ее: «Душа моя, душенька», – а она откликалась: «Мой любимый, мой единственный».
Ссора налетела, как облачко. Я просто приревновал ее на одной вечеринке. Она пулей выскочила из этой чужой квартиры, я за ней. Не знаю, откуда в столь позднее время вынырнула эта машина, но она сбила ее, как рок. Я склонился над ней и обнял еще теплые, безжизненные плечи. Она, как бабочка, затрепыхала, потянулась мне навстречу и умерла.
III
Мне тридцать лет. Я влюблен. Ее зовут Ира.
* * * * *
Андрей встретил меня возле метро, обнял, поцеловал и подарил цветы. Я была счастлива, я любила его. В этот день он пригласил меня в гости к своему приятелю. Мы с ним вечно кочевали от его приятелей к моим приятельницам. У него были жена и сын, у меня – муж и дочь. И только наши друзья выручали нас, предоставляя свои квартиры для наших свиданий и любви.
В этот раз он мне сказал:
– Это мой приятель Валера. Он зубной врач. Я к нему иногда хожу лечить зубы. Обычно он меня принимает последним, и мы вместе идем куда-нибудь в кабак.
Он сейчас должен подойти. Он недалеко живет. Хочешь, я тебе его опишу, и тогда ты сама его узнаешь.
Я кивнула.
– Он здоровый мужик, интеллигентный, но немного грубый. Руки огромные – как у мясника.
Я тут же представила себе Валеру, ковыряющего своей мясницкой лапой у меня во рту, и мне стало не по себе.
* * * * *
Ира всегда появлялась неожиданно и стремительно. Она каждый раз словно вылетала из толпы навстречу моим объятиям. На этот раз она была в темном костюме с белой блузкой, который ей так шел. Юбка обтягивала точеные ножки, сочетание черного пиджака и белой блузки, расстегнутой на три пуговицы и слегка приоткрывающей грудь, подчеркивало стройность фигуры и оттеняло ее зеленые, ведьмины глаза, которые я так любил.
* * * * *
Было начало осени, и еще тепло. Для нашей встречи с Андреем я надела темный костюм, который ему очень нравился: приталенный пиджак, короткая юбка и белая блузка с длинным воротником. Он сердился, когда я опаздывала, поэтому я собиралась и одевалась задолго до выхода. Перемерила много костюмов и платьев, сначала хотела показаться ему в чем-то новом, а потом решила: надену то, что ему нравится. Ведь он такой: что-то не так, промолчит, но я же сразу почувствую – чем-то не угодила.
Я стояла, прижавшись к нему, подхватив его под руку, вглядываясь в прохожих. Прямо на нас шел огромный мужчина лет сорока, распирающий мышцами ткань рубашки, с руками, как у мясника.
– Он? – спросила я.
– Он, молодец, угадала.
Я никак не ожидала от этого бугая такой галантности. Он раскланялся, даже наклонился, как мне показалось, чтобы поцеловать мне руку, но сдержался. В руке он держал большой и, видимо, тяжелый кожаный портфель. Я еще подумала: наверное, медицинские инструменты или лекарства всегда с собой носит.
Когда мы вошли в квартиру, в прихожей нас встретила миловидная, беловолосая девушка. Все вместе мы прошли в комнату, и Валера сказал:
– Лена, Андрей, Ира.
После чего он водрузил на стол заветный портфель и раскрыл его. Вместо медикаментов, в нем оказалось семь, ровно стоящих в ряд, бутылок водки. Он их торжественно вынул и произнес:
– Скромно, по-ленински.
А потом добавил, как бы извиняясь, что так мало принес:
– Сюда входит ровно семь бутылок, больше не помещается.
Я поглядела на Валеру с уважением.
– Лена, – повысил голос Валера, – у нас гости. Иди на кухню, приготовь что-нибудь.
Лена молча и послушно пошла на кухню.
– Валера, а кто она? Я ее раньше у тебя не видел, – спросил Андрей.
– Это Лена, мы вчера с ней познакомились.
* * * * *
Я уже начинал жалеть, что познакомил Иру с Валерой. У него, помимо рук зубодера, было четыре жены, среди них – одна известная поэтесса и одна француженка. Он с ними поочередно жил, а потом разводился. Были ли у него дети и сколько, я никогда не спрашивал.
Мы сели за стол и, скромно, по-ленински, выпили водки. А потом Валера сказал:
– Лена, ты помнишь, мы собирались пойти погулять?
И только тогда мы с Ирой, наконец, остались вдвоем.
* * * * *
Два года спустя мы расстались. Она меня бросила и вышла замуж за Валеру, а еще через год они уехали жить за границу. Или это я ее бросил и отправил куда-то за границу, подальше от себя? Или убил ее из ревности? Нет, я ее не убивал. Надеюсь, она жива и счастлива где-то. Пусть она будет той бабочкой, которую я отпустил, и улетит далеко отсюда. Там ей будет спокойнее.
IV
Когда мне было сорок лет, я встретил девушку на двадцать лет моложе меня и стал с ней жить. Ее звали Марина.
Однажды летом мы поехали с ней в Феодосию, туда, где все начиналось, туда, где в первый раз умерла моя бабочка. Все возвращается на круги своя, я снова вернулся в свой фонарный круг – в тот же двор.
Марина будто прилепилась ко мне. Не знаю, почему, но в Феодосии, на юге, где приморский берег, устеленный телами отдыхающих, так и источает похоть, Марина была скромницей. Какой бы она ни была в Москве, здесь не отходила от меня ни на шаг. Мы не расставались ни на минуту, ни днем, ни ночью.
Мы поселились в маленьком домике, в котором, кроме двух узких кроватей, шкафа и тумбочки, ничего не было, но нам этого хватало. Все чаще она говорила мне:
– Андрюша, не уходи от меня сегодня ночью.
Тогда я крепче обнимал ее и нежнее целовал, а когда мы засыпали на узкой кровати, то переплетались, наконец, в единое целое и становились одним человеком.
А утром шли на пляж. Марина несла свой надувной матрас, а я сумку. Мы плыли на камни, за сто метров от берега перерезающие грядой море, а потом пили пиво и бездумно валялись на нашей подстилке часов до трех. Для Марины море было самым прекрасным в жизни. Марина – морская моя, я всегда восхищался тем, как она соответствовала своему имени.
Когда мы шли на море, Марина одевалась по здешней моде – купальник, а снизу подпоясывалась какой-то марлей. Даже не знаю, как ее назвать, мы ее здесь и купили: что-то легкое и прозрачное. Она обертывалась вокруг талии, как у африканских женщин, и ничего не прикрывала, а наоборот, показывала. Наверное, для этого женщины и носили эти покрывала. Марина бросала в набегающую волну свой матрас, забиралась на него и плыла к камням, я за ней. Потом мы оставляли матрас на берегу, и она, то, как акула, с разбега ныряла в волну, то, горячая от жаркого солнца, стояла по колено в воде, а я уже плавал вокруг нее:
– Ну, заходи же в воду.
– Не хочу. Вода мокрая и холодная.
Тогда я бросался к ней, обнимал ее влажными руками и затаскивал в море. Она визжала, отталкивала меня, а потом уже в воде сама приставала ко мне, ныряла, стягивала под водой с меня плавки, выныривала и говорила:
– Попался? Вот теперь ты никуда не денешься от своей акулы.
Или обнимала, прижимала к себе и целовала солеными губами:
– Бегемотик мой дорогой, поплыли до камней.
Мы лежали на горячем песке, повернувшись спиной к солнцу, солнце жмурило нам глаза, и, уставшие от купания, но не от моря, мы отстранялись от окружающего мира и дремали, закрыв глаза, ощущая рядом теплоту и запах родного тела.
Когда под марш «Прощание славянки» поезд тронулся в Москву, Марина прижалась к окну и смотрела на море, пока оно не скрылось совсем.
– Как мне не хочется уезжать отсюда, – сказала она.
В Москве Марина мне вдруг сказала:
– Андрюша, я хочу от тебя родить ребенка.
* * * * *
Она не родила мне ребенка. Вскоре после приезда в Москву она заболела и через год умерла.
V
Мне сказали, что я чуть не убил свою внучку, такую маленькую и беленькую, как бабочка. Это неправда. Я просто взял ее в свои объятия, а она распахнула ручки, как крылья.
Мне пятьдесят лет, и теперь я живу здесь – в сумасшедшем доме, в отдельной палате.
Я лежу один, меня никто не беспокоит, время остановилось. Я много думаю о прожитом. Как странно: теперь я вспоминаю не своих детей и внуков, а женщин, которые были у меня, которых я любил. Я думаю о них – моих бабочках – или о моей душе: это одно и то же. Может быть, я слишком сильно любил, может быть, чересчур сильно прижимал их к себе, поэтому они умерли. Мне кажется, что это я их всех убил. Мне кажется, что я причастен к их смерти, потому что любил их. Или моя любовь, как гниль, несет смерть? Почему так? Почему я всем приношу несчастье? Я всегда считал себя добрым человеком. Почему же?
В меня влюблена медсестра. Ее зовут Люба. Она приходит иногда ко мне по ночам. Но когда в ночной тишине мне в мозг иголками впиваются шепот и шорохи, и голоса моих любимых, я начинаю бояться и за себя, и за нее. Я боюсь, что однажды, в порыве страсти, сожму ее, как бабочку, и прошепчу в последний миг: «Прощай, моя душа, прощай».
Море
I
Море тихо ласкает пеной берег. Нежная волна лижет прибрежный песок и отступает назад. Теплая от ушедшего дня, черная вода набегает на кромку пляжа и отползает обратно, в темноту. Медленное и плавное шевеление ночного моря затормаживает бег мыслей и времени и успокаивает сердце. Соленый летний ветерок освежает голову и холодит кожу. От пальцев ног до самого горизонта через спокойную, пенящуюся морскую гладь прокладывает себе узкий путь серебристая луна. Доносящиеся издалека чужие голоса и звуки тонут и глохнут в ленивом прибое. Ночь, тишина и безлюдье. Свет незнакомых огней растворяется в лунном сиянии, и тихая звездная ночь огораживает их черной пеленой. Окрашенный красками ночи, шуршит и пенится пузырями под набегающей волной остывший за вечер песок. Светящаяся электрическими точками огней, длинным изгибом, мешая с ночью горы и небо, уходит вправо бухта, а влево темнота скрадывает и берег, и море. Большая глазастая луна пятаком зависла над морем и прочертила по воде границы света и тьмы. Последние ночные купальщики ушли с пляжа, и остались благодать и покой. Соленый, свежий воздух раскрывает скальпелем грудь и наливает легкие. Они вздымаются сильнее, и глубже вдыхают в себя ноздри и рот море и воздух, становясь неразрывной связью между гигантом-морем и сидящим на берегу человеком.
Ванечка сидел у подножия волн на деревянном, дощатом топчане и вглядывался в черную морскую гладь, туда, куда утекали последние дни и ночи теплого лета. Ванечка смотрел в ночь, а в голове шумели солнечные дни и мягкие вечера уходящего августа. Ванечка глядел в кромешную даль, а в мозгу его, под полоскание волн и шуршание песка, всплывали картины и сцены прошедших двух месяцев. Думы поутихли, убаюканные летней прохладой, умиротворенные ночным покоем моря, душа успокоилась, и воспоминания стали в ряд.
II
И в детстве, и в молодости все его звали Ванечкой или Ванюшей.
В детстве он был тихим и каким-то отрешенным. Не то, чтобы он не любил играть со своими товарищами и бегать вместе с ними, но иногда, посередине игры, вдруг останавливался и куда-то всматривался, непонятно куда. Ему попались хорошие сверстники: они не били и не дразнили его за эти непонятные остановки, а со временем стали относиться к нему с уважением за его непохожесть. Он не был замкнутым или молчаливым, просто иногда набегало на него облачко отстраненной задумчивости, и тогда он, будто спотыкался на ходу и смотрел вдаль, словно видел там нечто, невидимое другому глазу. Его школьные друзья уже не удивлялись этим странным приступам его настроения и не трогали его в эти мгновения, но и они, и взрослые с тех пор, может быть любя, может, бережно, стали звать его Ванечкой.
В этом маленьком приморском городе жили, как в деревне: все знали друг друга. Зимой работали в порту или на единственном на весь город заводике, летом собирали урожай с курортников, сдавая им комнаты и продавая падавшие в садах на землю абрикосы.
Ванечка окончил школу, стал работать в порту и женился на своей однокласснице. Они стали жить в доме с большим двором, оставшимся ему от деда.
Маша работала на заводе и была хорошей и любящей женой. Она знала Ванечку с детства и не удивлялась, когда он ей говорил:
– Машенька, пойдем сегодня вечером на берег, я на море хочу посмотреть.
Местные редко ходили на море. То ли они устали от него и воспринимали море только как пользу, дающую рыбу, то ли свыклись с ним, как привыкают к окружающей природе, будь то лес или горы. Но Ванечка любил брать под руку Машу и ходить с ней на пляж, когда вечерело и там становилось пусто. Они сидели на деревянном топчане, обнявшись, и молчали. Ванечка смотрел куда-то за море, и Маша понимала, что нельзя его перебивать в эти минуты. Она не понимала, что с ним тогда происходит, но любила его и молча сидела рядом. Иногда так продолжалось полчаса, иногда час, а потом Ванечка, будто проснувшись, целовал жену, прижимал ее ближе и говорил:
– Пойдем, Машенька, домой. Ты не замерзла? Что-то зябко стало.
Маша была стройной и хрупкой, многие парни заглядывались на нее, но почему-то она полюбила этого странного, добродушного увальня, своего Ванечку.
Друзья говорили ему:
– Ну, Ванечка, добрая душа, повезло тебе, такую деваху отхватил.
А ей, в шутку, говорили:
– Ты, Маша, приглядывай за ним, а то задумается и пойдет по морю, аки по суше.
Прошло несколько лет после их женитьбы, и Ванечка как-то сказал Маше:
– Машенька, не обижайся на меня, пожалуйста, я потратил наши деньги: купил холст, мольберт и краски. Хочу попробовать рисовать.
Если бы Маша была другой, наверное, он не любил бы ее и не жил бы с ней.
Она ответила:
– Ванечка, как-нибудь доживем до зарплаты. А что ты будешь рисовать?
– Море.
– Как Айвазовский?
– Хуже, конечно, но мне очень хочется написать море.
– Рисуй, Ванечка, я тебе не буду мешать.
Айвазовский жил в этом городе. Его здесь до сих пор почитали и гордились им. На набережной, выстроенной этим художником, рядом с бегущей вдоль моря железной дорогой, проложенной на его деньги, до сих пор стоит его дом – Галерея Айвазовского.
Когда Ванечка рисовал, Маша не подходила близко. Он стоял на площадке лестницы, ведущей в подвал, и по его отрешенному взгляду Маша понимала, что, вместо белой стены, он видит море, а вниз по лестнице спускается, чтобы никто не помешал и не отвлек его взора, за которым распахивается стена.
Маша занималась своим домашним хозяйством и обходила стороной спуск в подвал, чтобы не потревожить Ванечку. Иногда он ей говорил:
– Машенька, иди сюда, посмотри. Это не мое, это копия с Айвазовского. Но скоро я пойму, как надо это писать, и тогда я нарисую что-то свое. Хотя это и будет то же самое море, но это будет другое море, потому что море всегда разное, это будет мое море.
Возможно, какая-нибудь другая женщина и сказала бы: «Ты бы лучше домом занялся, подвал разобрал бы, стенку бы отштукатурил». Но не Маша. Когда Ванечка закончил свою первую, написанную красками на холсте, картину, она купила рамку и повесила картину в спальню, а потом, прижавшись к нему и целуя, шептала:
– Ванечка, милый, как я тебя люблю. Ты мой самый хороший, художник мой дорогой.
Прошло несколько лет, и Ванечка стал писать, не подражая Айвазовскому, свои картины. Иногда он говорил жене:
– Машенька, знаешь, чего мне не хватает? Мне не хватает знаний. Если бы я учился, мне было бы легче. А я постоянно натыкаюсь на эту нехватку мастерства.
– Ванечка, если хочешь, поезжай учиться в Москву, хочешь, я с тобой поеду.
– Маша, родная, кому я там нужен? Да и поздно мне поступать в художественное училище. Ладно, буду рисовать для себя и для тебя.
Эти слова и те мгновения, когда он просил ее взглянуть на новую картину, были самыми счастливыми в их жизни.
Может быть, Маша чего-то не понимала в его творениях, но главное было не в этом: она любила его и переживала за него, и поэтому, чтобы он ей из нарисованного ни показывал, восхищалась им.
Почему-то детей у них не было, хотя они жили вместе уже много лет. Они оба мечтали о ребенке, но не получалось. Потом они узнали, что детей у них не будет, и смирились с этим.
Часто в гости приходили родственники и друзья, и все вместе они усаживались вечером в летнем дворе под виноградником за накрытым столом. И когда он подглядывал, как она накрывает на стол, суетится, готовит и несет к столу дымящуюся жареную рыбу: тараньку или кефаль, под салат из помидоров и огурцов, и стреляет в него черными, сияющими глазами, Ванечка понимал, что он самый счастливый человек на земле, пусть даже если он не настоящий художник.
III
В это лето, как и всегда, они сдавали комнаты приезжим. Приехал москвич, снял комнату и остался у них жить на две недели. Он был старше Маши и Ванечки лет на десять, и звали его Петр Петрович. Он представился художником, приехавшим на море и этюды. Имя Петра Петровича Волобуева было Ванечке известно по книгам и иллюстрациям.
Он поселился в отдельном домике во дворе, утром ходил на пляж и, просыпаясь от послеобеденного отдыха, брал мольберт и шел на берег.
Маша готовила завтраки и ужины для Петра Петровича, обедал он обычно в городе, а ужинать любил во дворе, и знаменитый художник снисходительно принимал, как должное, эти бесплатные знаки внимания.
Ванечка взял на работе несколько дней за свой счет и бегал повсюду за Волобуевым, радостный, как собачонка. А ночью в постели он рассказывал Маше:
– Представляешь, Машенька, сегодня Петр Петрович разрешил мне дорисовать на его эскизе небольшой кусочек моря.
Ванечка, как хвостик, ходил за ним на пляж и носил за ним мольберт и сумку.
Поначалу Волобуеву нравились Ванечкина восторженность в глазах и восхищение ученика, с которым тот следил за крупными мазками мэтра на холсте. Потом Ванечкино назойливое присутствие и провинциальная радость от общения со столичной знаменитостью ему надоели. Картина не получалась, Петр Петрович сам понимал, что не хватает в ней души или таланта, и про себя стал обвинять в этом Ванечку: мешает, смотрит, не отходит ни на шаг, не дает сосредоточиться. Петр Петрович был интеллигентным человеком и всегда гордился своей изысканностью в манерах и одежде, и не мог, в силу своего воспитания и образа жизни, грубо оттолкнуть Ванечку от себя. Но в глубине души уже поднималась и закипала злобненькая волна отвращения к этому провинциалу.
Работа не шла. Когда Петр Петрович Волобуев приехал сюда, впервые – в город, где творил Айвазовский, его не оставляли счастливые надежды, что он напишет серию картин о море, и представит их на очередную выставку, и они будут иметь успех. Ничего не получалось, как мастер, Петр Петрович это хорошо понимал. Между ним и лежащей у его ног водой будто вырос невидимый барьер, и теперь Волобуев винил в этом робкого, доверчивого, очарованного Ванечку. И даже когда закончились Ванечкины отгульные дни, и он снова вышел на работу и избавил Волобуева от своего присутствия, прилипшего, как тень, ничего не изменилось: картина не удавалась, море ускользало от восприятия, краски ложились не те и не так. Глухая озлобленность на себя, на море, на неудавшуюся картину и, больше всего, на Ванечку наполнила до краев чашу его сердца, и тогда Петр Петрович забросил свой мольберт и краски в угол и стал ходить на море, как все: купаться и загорать.
Однажды в субботу утром, после поданного Машей завтрака, уже собираясь на пляж, Петр Петрович увидел Ванечку внизу, на площадке лестницы, ведущей в подвал, с кистью в руке. Мстительная нотка за неудавшуюся работу звякнула внутри. Уже сладко предвкушая, как сейчас он разнесет в пух и прах мазню этого местного подмастерья, он спустился на три ступеньки вниз и заглянул Ванечке через плечо. Он уже открыл рот, чтобы выплеснуть в Ванечку заранее приготовленную, ядовитую фразу, но вдруг замер, не отводя глаз от почти законченной картины. То, что он увидел на холсте, поразило и ранило его в самое сердце. Там было изображено то, что он сам хотел написать когда-то, но даже здесь, на родине Айвазовского, не пытался начать, боялся подступиться к такому полотну. Было одно лишь море, огромное и спокойное, как зазеркалье, и первый, робкий луч выплывающего из-за горизонта раскаленного, краснеющего солнца, и белый парус вдалеке, плывущий навстречу рассвету. Больше ничего: ни берега, ни пляжа, ни гор, ни людей, только раскинувшееся на всю картину море, парус и восходящее солнце. Всё другое было бы здесь лишним, неуместным и ненужным. Морская гладь пульсировала, как лишенное покрова кожи сердце, и оживала на картине, и было в ней столько достоинства, красоты, благородства, спокойствия и внутренней силы, что Петр Петрович невольно подумал про себя: «Я бы так никогда не смог написать». Как на проявляющейся на глазах фотографии, светлело небо, но солнце еще не встало, оно только посылало вдаль, в глаза, свой первый луч, бороздя яичным желтком легкую зыбь, пронзая, как стрела, от горизонта до самой кромки, море. А навстречу первому солнечному лучу плыл одинокий белый парус.
Волобуев смотрел на картину молча, и как мастер, как художник, как профессионал, понимал: то, что написано на этом холсте, то, что он один сейчас видит и понимает, – это гениально. Даже не талантливо, а гениально. «Господи, это же новый Айвазовский, но другой, совершенно другой», – подумал он. «Как это возможно, – размышлял он про себя, не отрывая глаз от картины, – не учась ничему и нигде, написать такое. Как ему удалось, этому деревенскому самородку и слабоумку, так смешать краски, так сродниться с этим морем и передать и его, и свою душу в этой картине? Не понимаю, как он это увидел и выразил, не понимаю. Это невозможно и это гениально. А ведь ни он даже, ни его жена, тем более, не ведают, что он написал, как он написал. Только я могу понять, что за творение он создал, он – этот неуч, ничтожество, провинциал. Не я, а он смог выразить на полотне вот это: море, парус, рассвет. Как просто, но у меня бы не получилось, а он смог, не зная, что творит».
Ванечка глядел на Петра Петровича заворожено, вопросительно, не отводя глаз, затаив дыхание, как ждут приговора: жизнь или смерть.
Волобуев очнулся от своих мыслей и перевел взгляд на замершего в ожидании Ванечку:
– Что я могу сказать, молодой человек? Неплохо, даже очень неплохо. Хотя до настоящего художника вам еще очень далеко. Посмотрите на этот мазок, он явно здесь не к месту. И краски не очень естественны. Хорошо, но чего-то не хватает. Людей, что ли?
– Петр Петрович, но я не хотел рисовать людей, я хотел нарисовать море. Я так и назову эту картину – «Море».
– Ничего, ничего, не обижайтесь. Хотите, я возьму эту картину с собой в Москву и покажу ее своим друзьям – художникам?
– Петр Петрович, простите, не могу, я обещал подарить эту картину Маше на день рождения.
– Ну, смотрите, смотрите, настаивать не буду. Если передумаете, скажите.
– Петр Петрович, а давайте, я покажу вам другие мои картины.
– Хорошо, потом как-нибудь.
Петр Петрович круто развернулся, поднялся по ступенькам и пошел на пляж.
IV
Петр Петрович Волобуев не был коренным москвичом. Он вырос в маленьком провинциальном Плесе на Волге. Когда-то в этом городе бывал Левитан, сохранился дом, в котором он останавливался, и река, и церкви, которые легли на его полотна. Сюда приезжали известные художники, здесь бывал Шаляпин. Как ни странно, город не тронула блочная, безликая застройка, он сохранил свои одноэтажные домики и храмы на высоком берегу, свое лицо и душу с левитановских времен. В городе жило четыре тысячи человек, и, где и кем бы они ни работали, половина из них были художники. По выходным они располагались со своими мольбертами на соборной горке или на набережной и писали свои картины, пытаясь, каждый в меру своего таланта, перенести на холст и сохранить на нем эту красоту.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=71022151) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Михаил Забелин
По-разному складываются судьбы героев этих рассказов. Но их всех объединяет одно прекрасное чувство, важнее и сильнее которого нет ничего на свете, – любовь.
Мгновения любви
Повести и рассказы
Михаил Забелин
© Михаил Забелин, 2024
ISBN 978-5-0064-4883-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Письма
«Я на коне, толкани, я с коня,
Только не, только ни у меня».
В. Высоцкий
I
Кирпичные коробки домов обступали окно. Вьюгой стучался в стекло февраль. Круг света падал на стол и на белый лист бумаги, под лампой было тепло и мягко, и не хотелось уходить из него, иначе становилось жутко, и белая снежная муть подкрадывалась к окну.
Которую ночь не спалось, и много дней не было сил и желания открывать глаза. Павел Петрович сидел на кухне в московской пустой, чужой квартире и писал письмо. В последние годы писать письма вошло у него в привычку, но вот уже много ночей, когда сон не приходил, а голова наливалась тяжестью и воспоминаниями, он садился за пустой лист и писал одну и ту же фразу: «Любимая, единственная моя Иришенька!» Потом он отрывался от письма и долго смотрел в голую стену, словно хотел разглядеть в ней то, что мучило его и не давало покою.
Перед ним на столе всегда лежала стопка писем, которые он затем долго ласкал руками, а потом медленно перечитывал, бережно повторяя по нескольку раз одни и те же слова.
«Милый мой, дорогой, любимый!
Как здорово получать от тебя письма. Самый счастливый момент в моей жизни. Мне так интересно узнавать о твоей жизни, теперь совсем не такой, какая она была здесь, в России. Я как будто ее частично разделяю, но на самом деле ты ужасно далеко. Очень тяжело это ощущать и осознавать. Я сейчас живу только надеждами и ожиданием, хотя порой бывает очень трудно. Но всё это пройдет, пролетит, и я буду вспоминать об этом времени с большой радостью и даже гордостью. Как ты говоришь, «всё будет хорошо». Всё будет хорошо. Я верю в это, я знаю это, я тебя очень люблю.
…Какое счастье, что удалось поговорить с тобой по телефону. Я весь день танцевала…»
«Любимый мой, родной, здравствуй!
Ты знаешь, после разговора по телефону меня не покидает горькое чувство: ты почему-то все время какой-то неспокойный, волнуешься, не веришь, всё время в чем-то или в ком-то сомневаешься. Уверяю тебя, что нет тому причин, нет. Я, конечно, понимаю, что нам здесь гораздо легче, чем тебе там: мы все вместе с родными и друзьями, а ты практически один, да еще так далеко. Но, пожалуйста, поверь мне, что у нас всё нормально, всё хорошо, всё идет своим ходом. Все мы только и делаем, что отсчитываем очередной день, неделю, месяц, которые приближают твой приезд. Вот еще один день прошел. Немножко грустное настроение. Завтра опять холодно, а зимние сапоги я себе так и не купила. Хожу в старых. Наплевать. Осталось немного. Ведь должны же когда-нибудь кончиться эти морозы. Скорей бы весна, лето! Так надоели морозы, холод, надеваешь на себя сто одежек, транспорт этот ужасный. Я очень устаю от дороги, стараюсь в выходные никуда не ездить, отдохнуть от людей, автобусов, метро.
На меня иногда такая тоска нападает, что свет мне не мил. И в последнее время это стало случаться чаще. Настраиваю себя, уговариваю, стараюсь отвлечься – всё равно. Иногда невыносимо тяжко. Кажется, будто время остановилось…
…У нас погода совершенно ненормальная. То морозы -20-25, то оттепель +3+5, снег, дождь. Не помню я такой зимы. Одно только постоянно – солнышко всё время светит. Как в Африке.
…Ужасно хочется съездить загород, покататься на лыжах, как в прошлом году, в марте, когда светило весеннее солнышко, снег прилипал к лыжам, его приходилось сбивать… Скоро опять весна, осталось два месяца. Время летит очень быстро, правда?..»
II
Мартовским снежным днем судьба налетела на нас, как вихрь, сшибла нас и перевернула, перемешала наши жизни…
Мы оказались с Иришенькой одновременно в одном подмосковном доме отдыха, и случай усадил нас за один столик в столовой, где трижды в день собирались отдыхающие. Все дома отдыха похожи друг на друга и будто специально созданы для ненавязчивых, недолгих знакомств. Морозный воздух веселил кровь, легкий, ни к чему не обязывающий разговор с милой соседкой оживлял мозг и волновал сердце, и я уже предвкушал приятное десятидневное развлечение. Жена моя оставалась в Москве и была тоже рада отдохнуть от моего присутствия, потому что за десять лет нашей совместной жизни мы настолько истерзали себя обидами, непониманием, недоверием и равнодушием, что давно не любили и не жили, а только терпели друг друга.
Таких, как я, тысячи. Тысячи мужчин едут зимой на отдых, катаются на лыжах, занимаются спортом, сидят вечером в баре или танцуют, встречают тысячи таких же, как они, одиноких женщин, а потом возвращаются домой, и лишь иногда вечерком, сидя в глубоком кресле перед телевизором, они вспоминают ту ушедшую зиму, и коротко шевельнутся и погаснут в памяти неповторимая в мире улыбка влюбленной женщины и сияющие глаза под мягкой заснеженной шапочкой.
Всё начиналось обычно и просто, и ни я, ни Ира еще не догадывались, что где-то на дне вселенной сошлись на орбите две наши маленькие путеводные звезды и, ярко вспыхнув, повели нас по новому кругу жизни. Кто объяснит, кто узнает, где тот таинственный миг, когда зарождается в человеке уголек любви, и невидимая нить протягивается от сердца к сердцу? Где та граница, за которой вдруг кончается наша скучная, унылая, монотонная жизнь и начинается другая: полная надежд и мучений, ожиданий и встреч, улыбок и слез, легкости чувств и мыслей, сладости и страдания любви?
Ярко светило солнце, и сияло голубизной небо, а в лесу под елями еще хоронился в тени глубокий снег. Какая это сказка – подмосковный зимний лес! Морозный воздух осязаем, как натянутая струна. Солнце брызжет в лицо ветром и снежной пылью, лыжи скользят по проторенной лыжне, и только на ослепительных от солнца снежных полянах приходится останавливаться и сбивать с лыж налипший, набухший снег.
Мы бежали по лесу вдвоем, часто поворачивали и уходили куда-то в сторону, чтобы не видеть людей, – нам никого не хотелось видеть, – останавливались, вдыхали полной грудью пьянящий морозный воздух и улыбались друг другу. Мне кажется, именно тогда перескочила от сердца к сердцу и обожгла нас первая искра близости и любви. Мы стояли рядом, оба, будто наэлектризованные солнечным светом, чистым воздухом, предчувствием весны. Я счищал снег с ее лыж, я гладил рукой холодную деревяшку у ее ног так, словно я гладил и ласкал родную, любимую женщину, и тогда я почувствовал вдруг, что дороже и ближе этой маленькой, хрупкой, стоящей рядом со мной, улыбающейся мне женщины, нет и никого не было у меня, и жгучая нежность к ней, нежность, какой никогда, ни к кому я в жизни не испытывал, перехватила горло.
«Здравствуй, мой дорогой, любимый!
Целую неделю я отдыхала в Софрино. Там красота неописуемая: мягкая, безветренная погода, белый-белый снег, деревья в инее. Каждый день я ходила на лыжах, несмотря на то, что лыжня была сырая, и лыжи совершенно не шли. Но, Боже мой, сколько же воспоминаний навевали эти прогулки, те же самые тропинки, полянка, где мы купались в снегу. Сначала я даже затосковала и очень сильно загрустила, даже где-то в душе пожалела, что приехала сюда, но потом я как-то так себя настроила, что все эти памятные места не грусть наводили, а наоборот, радость и счастье, и главное, надежду на то, что всё будет хорошо. Как будто бы я увиделась снова со своими старыми друзьями, и хотя погода была, в основном, пасмурной, я всё равно ощущала тепло, тем более, что мое солнышко светило мне ярко и горячо…»
III
Последние годы я жила и билась, как птица в клетке. Сгорбившись душой, я несла по жизни свой крест, и не было сил расправить крылья и вылететь из клетки на волю. Куда лететь? Зачем? Когда-то давно, в один из дней душевного подъема, я решилась развестись с мужем. Но решимость пропала, желания перегорели. От судьбы своей не уйдешь. Да и куда было бежать, к кому? Такую малость хотелось в жизни: любви и счастья, и своего милого, уютного дома. Ничего не сбылось, ничего не осуществилось. Рядом был чужой человек, ради которого я мучилась и билась в жизни: за него, за себя, за наш общий дом. А он не хотел или не мог этого понять, и на место любви пришли усталость и равнодушие. Почему нам всю жизнь приходится бороться за то малое, что с рождения должно принадлежать человеку? Биться за то, чтобы жить в нормальных человеческих условиях, биться за то, чтобы делать дело, которое нравится, за то, чтобы одеться и прокормить себя и семью? Я устала бороться, я устала так жить. Я поняла, что надо просто жить, просто плыть по течению и плестись изо дня в день по давно проложенной чужой колее, что ничего больше не будет: ни любви, ни счастья, ни родного дома, и ждать больше нечего.
Так и жила я, постыло и равнодушно, до того мартовского снежного дня, когда судьба налетела на нас, как вихрь, и перемешала, перепутала наши пути.
«Только что получила твое огромное чудесное письмо. Я, к сожалению, не могу так хорошо писать. Мне не хватает слов, чтобы все мои чувства, переживания, эмоции выразить только словами, только на бумаге. А твоими письмами можно зачитываться; мне даже хочется, чтобы кто-нибудь из моих знакомых почитал их, просто гордость испытываю – никогда, никто не писал мне столько красивых, нежных, душевных, любовных и сердечных писем, как ты. Я сохраню их на всю жизнь и в самые хорошие (или тяжелые) моменты буду их перечитывать. Ведь если бы ты не уехал, я бы никогда не испытала такого счастья: получать и читать твои письма, переполненные любовью ко мне, тревогой и надеждой, страданием и радостью. Я очень благодарна тебе, любимый мой, за те слова, чувства, за твою любовь, которые я чувствую и ощущаю на расстоянии, и ты тоже будь уверен во мне.
У нас всё нормально. Я очень устаю на работе, от транспорта. За выходные отдохнуть не успеваю. В театре не была, одной не хочется, жду тебя. Вообще, мне без тебя ходить в театры, в кино не нравится. Я себя чувствую какой-то неполноценной. Приезжай скорей, мой любимый, и мы пойдем с тобой, куда только пожелаем».
На третий день нашего знакомства мы поехали вместе в Загорск. Я люблю церкви, хоть и мало осталось на нашей земле храмов, где еще сохранился огонек веры и сострадания, что еще несут людям тепло надежды и успокоения. Я молюсь иногда за всё хорошее и верую тайно.
Кругом монастыря лежал чистый снег, и купола светились золотом и солнцем. В темном Троицком соборе возвышенно и скорбно пел церковный хор, строгие лики святых смотрели на нас с рублевских икон, и тусклый свет негасимых лампад согревал душу покоем. Я плакала и молилась, я молилась за него и за себя, я еще не знала, люблю ли я его, но так хотелось, чтобы это была действительно любовь, и я молилась за нас и за нашу любовь. Высокое пение возносилось к куполу, и вместе со слезами вытекали из сердца горечь и тоска. Он стоял в глубине церкви и смотрел на меня серьезно и внимательно. Кончиками волос, затылком, спиной я чувствовала его взгляд, и еще сильнее хотелось молиться и верить. А потом в Патриарших сказочных палатах ударила гонгом в сердце та минута, которой я ждала и боялась, до сих пор не понимая, как это бывает, что вдруг становится ясно: да, это любовь, я люблю, люблю. Ни я, ни он, мне кажется, до самой той минуты не думали и не знали, как это произойдет. Это было, как вспышка, как веление свыше. Он набрал в ладонь святой воды и у икон всех святых провел пальцами робко и нежно по щекам моим и по лбу. Мы стояли молча, глаза в глаза, и я подумала, что в этот миг, в храме перед иконами, сам Господь Бог благословил нас и нашу любовь.
«…Когда долго нет от тебя известий, мне кажется, что ты ужасно далеко, в неизвестности. А это очень тяжело. Особенно, когда это касается самого любимого человека на свете. Береги себя».
Вечером того дня мы танцевали в баре. Мне так хотелось быть самой красивой – для него, самой нежной – для него, самой веселой – для него, самой обаятельной, самой умной – для него. Сердце стучало в груди и не принадлежало уже мне. Я знала, что я вся, до последней клеточки, безраздельно его, я любила его. Поздно вечером он пришел ко мне и остался со мной, и мы стали тайными мужем и женой.
«…Иногда, вечерами, я надеваю твое любимое платье и сижу одна или с кем-нибудь из своих соседушек-подружек, болтаем о том, о сем. Скорей бы лето! Мне один человек говорил, что я очень красивая, когда на меня падают солнечные лучи. А мне ужасно хочется быть красивой – особенно для него. Время летит быстро. И годы наши тоже летят, к сожалению, очень быстро. И остается жить только надеждой и ожиданием. Но если у человека отнять надежду на лучшее, тогда жизнь становится бессмысленной, пустой, неинтересной. А я все-таки счастливая, потому что у меня есть такая надежда, у меня есть близкие, родные люди, которых люблю я, и которые любят меня, и поэтому мне не страшно плыть в своей ладье по жизни, пусть ладье еще не полной, но в ней есть достаточно места для тех, кого там пока не хватает…»
IV
Зашумела, закрутила водоворотом будней Москва. Мы встречались с Иришенькой ежедневно. От тех дней осталось лишь размытое воспоминание потрясающей, ежесекундной эйфории любви. Мы не могли друг без друга. Мы то и дело звонили друг другу на работу, я встречал ее каждый вечер, дарил цветы, мы куда-то ездили, где-то бродили по улицам, говорили о чем-то важном и дорогом для нас, ходили в театр, на выставки, сидели в кафе, наслаждаясь нечаянным прикосновением рук и ног, глазами погружаясь в глаза. Мы бывали у моих друзей, она познакомила меня со своими подругами. Друзья говорили, что мы хорошая пара. Наверное, мы изменились и внешне, любовь возвышает душу, облагораживает и красит человека: на нас оборачивались на улице, незнакомые люди останавливались и говорили нам: «Берегите себя». Иногда я оставался у нее дома. Мы зажигали свечи и пили вкусное вино. Она надевала мое любимое платье, садилась за пианино, играла и немного пела. А я любовался ее лицом, ее пальцами, ее фигурой, и в те чудесные мгновенья нам обоим казалось, что мы нашли ту тихую пристань, к которой плыли всю жизнь. В Москве бульварами цвела весна, и той единственной, незабываемой весной, исстрадавшись от жажды истинной любви, мы припали к ее роднику и пили взахлеб, наслаждаясь жизнью и друг другом. Мы, как влюбленные нищие, украдкой срывали с древа желаний часы близости и были счастливы. Мир перестал существовать, мы остались одни на земле.
До сих пор, кружа в суете дел по Москве, я вдруг останавливаюсь невольно, и, как из далекого сна, проявляются в памяти ее сапфировые глаза, и сердце ноет: «Мы здесь бывали с Иришенькой».
Однажды вечером, когда я провожал ее домой, она сказала мне:
– Я всё рассказала мужу. Я сказала, что люблю другого человека. Я не могу с ним жить и не хочу обманывать. Я не могу и не хочу быть ни с кем, только с тобой.
И я сказал ей:
– Я ужасно люблю тебя, Иришенька, и больше всего на свете хочу, чтобы ты стала моей женой.
Господи! Сколько искренних клятв и обещаний дают люди. Если бы хоть сотая их часть исполнялась когда-нибудь, может быть, меньше было бы на земле страданий и одиночества.
«…Романтик ты мой любимый, твои письма для меня, как бальзам, живу только ими и мыслями о встрече. Постоянно думаю о тебе, разговариваю с тобой. Приезжай скорей, я очень жду тебя. И я в тебя очень-очень верю. И ты мне верь, пожалуйста.
…Нам тебя очень здорово не хватает. Особенно мне. Как будто половину отрезали. Иногда бывает очень тяжело. Сейчас уже поздно, двенадцать часов. Я на кухне, часы тикают, и мне кажется, что рядом сидишь ты, я так отчетливо вижу тебя и плачу…»
Она разводилась с мужем долго, мучительно, трудно.
А мне предложили на работе новое, почетное назначение: выезд в длительную, на несколько лет, командировку за границу.
V
– Не могу я отказаться, пойми, пожалуйста. Я ждал этой командировки много лет. Мое продвижение по службе, моя карьера зависят от этой поездки. Два-три года, и я вернусь, вернусь к тебе. И, кроме того, деньги. Ты посуди сама, Иришенька: нам начинать с тобой новую жизнь, нужно покупать квартиру, нужны будут деньги. За два-три года там я заработаю достаточно. Милая моя, бывает же так: муж уезжает в командировку один, жена ждет его. Ты ведь будешь меня ждать?
Я говорил, говорил, говорил… Она не плакала и не возражала, но мне было больно и стыдно глядеть ей в глаза, в которых застыла мука раненого насмерть животного. Я гладил ей волосы и целовал ее губы, и обнимал ее, и уговаривал ее, как маленькую девочку.
– Она тоже поедет с тобой?
– Меня не пустят без нее за границу, иначе нельзя. Но это ничего не значит.
Иришенька, радость моя, счастье мое, я ведь только тебя люблю, ужасно тебя люблю.
Лгал ли я ей или себе в ту минуту? Нет, наверное. Я, действительно, очень любил ее. Я никогда не обманывал ее ни единым словом. Я готов был отдать за нее жизнь. Я хотел, чтобы она стала моей женой, и верил, что мы будем вместе. Я любил ее нежно и бережно, боясь обидеть неосторожным словом. И знал, что она тоже любит меня. Мы часто говорили с ней, какое это редкое счастье, дарованное немногим, – взаимная любовь. Мы оба давно вышли из юношеской поры, когда любовь так же быстро гаснет, как и разгорается в сердце. Мы любили и сердцем, и умом, мы понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда, наши мысли, чувства, образование, даже опыт прожитой жизни были похожи, мы хотели счастья и понимали, как трудно оно дается и как легко его потерять, и склонялись над этим разгоравшимся огоньком, пытаясь защитить его от ветров жизни, и верили в него, и верили друг в друга. Я не лгал ей. Но все мои тридцать пять лет привитого с детства в мозг подчинения навязанным нам и впитавшимся в нашу кровь общественным нормам и правилам вставали на дыбы и не отпускали меня. У меня не укладывалось в голове, что я могу поступить по-другому, что именно сейчас я могу и должен развестись и жениться на суженой своей, потому что меня не то, чтобы не поняли, а просто отторгли бы, как сломавшуюся деталь, из слаженного чиновничьего аппарата, в котором я работал. Я будто не принадлежал себе. Словно существовали разные сферы, которые никогда не могли соприкоснуться: моя любовь к Ирише и какая-то условная мораль, нарушив которую, я не мог ни получить повышения по службе, ни работать за границей. Тогда я даже не задумывался о том, что само понятие морали перевернуто в нашем обществе с ног на голову, что аморально жить с нелюбимым человеком, а не развестись с ним, что правильно и нормально жениться на женщине, которую любишь, не боясь, что тебя осудят, изгонят, запрут в клетку недоверия и лишат того, чего ты достиг трудом. Неосознанный страх оступиться в глазах начальства и общества толкал меня по проложенному десятилетиями пути, на котором нельзя даже помыслить остановиться, задуматься и сказать нет. Рабская податливая сущность, воспитывавшаяся годами и вошедшая в плоть, умела лишь оправдываться, просить и соглашаться. Большинство из нас с детства и на всю жизнь заражены этой болезнью: мы движемся по заданному маршруту в соответствии с установленным расписанием и поворачиваем на стрелки и указатели, и боимся ступить лишний шаг и сказать лишнее слово, – а вдруг не положено. Десятилетиями строили нас в колонны и внушали: делай, как все, – и в своем бесконечном трубном марше мы привыкли слушать команды и разучились думать и принимать решения. Я искренне не понимал тогда, что может быть по-другому, что неладно, не так мы живем, если из страха перед инструкциями мы добровольно отказываемся от своего счастья и сравниваем вещи несравнимые, ставя на одну чашу весов любовь и будущую жизнь, а на другую – благоволение начальства и поездку за границу. Бедные люди, выцарапывающие зубами и когтями возможность работать за границей, вычеркивающие годы из своей жизни ради того, чтобы накопить денег на весь оставшийся свой век, забывающие нормальное человеческое общение и достоинство, говорящие на искусственном, суррогатном языке из нескольких слов: цены, вещи, купля, продажа. Они не виноваты в этом. Бедное, больное общество доводит их до состояния червей.
И я, как все, представлял себе диким отказаться от дарованной мне возможности. И говорил, говорил, говорил… И уговаривал себя и ее, что всё правильно, и по-другому поступить невозможно. И только спрашивал, постоянно ее спрашивал:
– Ты будешь ждать меня, Иришенька?
– Буду ждать. Я очень постараюсь тебя дождаться, – отвечала она.
А жизнь в это время уже готовила нам новые перекаты. Словно Бог до самого конца испытывал нас.
Меня вызвал секретарь партийной организации и показал мне бумаги, в которых говорилось, что я живу с женщиной, и разрушил ее семью.
Сколько лет, сколько поколений нужно давить человека, чтобы он боялся признаться в своей любви? Сколько людей и труда надо положить на то, чтобы воспитать в человеке постоянный страх говорить правду, научить его изворачиваться и лгать всем и самому себе, подличать и переступать через свое человеческое достоинство? Я был похож на бычка, которого ведут на заклание; у меня будто веревкой перехватили шею и тянули на поводу, то отпуская ее, то стягивая горло: я мычал и отнекивался, и, в конце концов, сказал, что мы с ней старые друзья, что нет никакой любви и быть ее не может. Вызывали и ее, и она повторяла мои слова. Вызывали, выпытывали, выспрашивали и раздевали донага наши души. Тогда я не задавался вопросом: какое они имели право врываться в нашу жизнь и копаться в наших сердцах. Мне казалось естественным, что с нами затеяли какую-то подленькую игру, где всё всем известно, но да не говорится, игру, в которой они спасали меня от самого себя, а я предавал и себя, и нас. Я должен был выбирать, и я выбрал то, что было предложено правилами игры. А в награду мне кинули разрешение выехать на престижную работу за границу. И, как верный пес, я схватил эту кость и благодарно завилял хвостом.
VI
Пришло и пролетело, прошумело грозами и угасло в осенних пасмурных днях короткое, жаркое лето. Оставался месяц до моего отъезда. Мы с Ирой поехали на несколько дней в Ленинград.
Я мечтал подарить ей весь мир. Я подарил ей мой любимый город. Я подарил ей гранитные набережные Невы и чугунные узоры мостов, я подарил ей сокровища Эрмитажа и замерший над Невой памятник Петру, и неистовых Клодтовых коней на Аничковом мосту, я распахнул для нее двери Казанского собора и Иссакия, я отворил перед ней дворцы и музеи, я расстелил у ее ног золотой ковер Летнего сада, я увлек ее в пересеченье улиц этого сказочного города и постелил его площади под ее каблучки, я провел ее по шумному Невскому проспекту и заманил в тишину уснувших парков. Я был счастлив, что она открыла для себя целый город и полюбила его вместе со мной. Друзья помогли нам снять маленький номер в гостинице на Невском, и впервые у нас появились ключи от нашего общего дома. Мы страшно гордились этим. Все наши тревоги и переживания остались в Москве. Мы забыли обо всем на свете, и мой отъезд казался нам далеким и нереальным.
Я никогда раньше не знал, какое это счастье – засыпать рядом с любимой женщиной и просыпаться вместе. Нам не надо было торопиться и расставаться, нам не надо было ждать вечера, чтобы увидеться вновь. На несколько дней мы освободились и выпали из круга бестолковой суеты и оказались вдвоем вне времени и пространства.
В парке Екатерининского дворца духовой оркестр играл Штрауса. Она сидела у меня на коленях, я крепко прижимал ее к груди и боялся отпустить даже на секунду, будто хотел спаять наши сердца. Вдоль царицыных прудов мы гуляли по липовым аллеям, а потом бежали на другую сторону дворца, чтобы увидеть, как заходящее солнце пронзает золотые ворота и, отражаясь в окнах, растекается по бирюзе дворцовых стен. Там, где золотые фонтаны Петергофа вливаются в Финский залив, мы бродили по парку, взявшись за руки. В кронах старых деревьев и в наших душах пели осенние скрипки, и опавшие листья кружились у наших ног и разлетались, как наши судьбы, гонимые ветром.
Это были самые счастливые дни в нашей жизни. Я часто думаю: для чего мы живем, для чего живу я? Хоть единожды в жизни каждый из нас, рождающихся и умирающих на этой земле, уходящих из жизни без следа, задается этим вопросом. И каждый человек, каждое поколение, каждое общество придумывает на него свой ответ, но конечной истины не существует. Мне казалось в те короткие дни, что истина открылась мне. Мне казалось тогда, что ради этой красоты вокруг нас, ради этих деревьев, ради этого воздуха и солнца в глазах любимой стоит жить, ради этого мы живем. Так мне казалось, потому что в те последние наши дни я дышал, я любил и я жил так полно и самозабвенно, как никогда ни раньше, ни потом.
«…Нам тебя очень не хватает. Тоскливо, грустно. Я всё время вспоминаю Ленинград, почему-то с этим городом у меня связаны самые светлые воспоминания. Каждый вечер, когда в программе „Время“ говорят погоду, я с трепетом слушаю, какая погода будет в Ленинграде. Я всё время вспоминаю потрясающие парки, особенно мне запомнился Павловский парк, не знаю почему, но тот вид, который открывается сверху, так и стоит у меня в глазах. Может быть, еще и потому, что это был последний день в Ленинграде, и хотелось впитать в себя как можно больше впечатлений, этой изумительной красоты, совершенства. Как здорово, что мы съездили в Ленинград, наш любимый город и нашу колыбель. Это ведь останется с нами на всю жизнь».
VII
Завтра последний день. Завтра он уезжает. Господи! Всемогущий Боже, только Ты один знаешь, как я измучилась, как извелась я. Сколько лет жизни я отдала, чтобы говорить, молчать и улыбаться, когда сердце кричит и рвется от боли и слез. За какие грехи, Господи, Ты посылаешь мне муку разлуки и одиночества? Почему всё так тяжко дается мне в жизни? Почему за свою любовь обязательно надо платить страданием? Почему так несправедливо устроен мир? Почему он – любящий и любимый, уезжает с другой, а я – жена его перед Богом, остаюсь одна? Почему всё так перевернуто в нашей жизни? Почему одни тупики кругом вместо дорог? Ответь, научи, Господи!
Прости меня, Господи! Я буду молиться за него. Я буду молиться, чтобы ничего не случилось с ним там. Я буду ждать его. Только хватило бы сил. Пошли мне сил и терпения, Господи.
Я могла бы удержать его, я знаю. Но он никогда бы не простил мне этого. Я могла бы заставить его развестись и оставить с собой, но я не хочу и ради нашей любви стать препятствием на его пути. Я не хочу, чтобы даже тень обиды или непонимания промелькнула когда-нибудь между нами. Я не хочу, чтобы однажды он мог упрекнуть меня, сказать или подумать: «Это ты виновата». Лучше засохнуть, как вырванный из земли цветок, чем это.
Завтра последний день. Я не представляю, как я смогу жить без его рук, без его глаз, без его слов, калекой, у которой отрезали половину сердца. Половинушка моя, зачем же ты уходишь, родной?
Завтра он уезжает. Завтра сомкнется круг, в котором я останусь одна, и всё станет неопределенно и зыбко: его любовь и мое положение оставленной жены или брошенной любовницы. Кто я ему, нужна ли я ему, кто я без него? Вот чего я страшусь более всего: неуверенности и сомнений, – и никого, пустыня вокруг, и только пустота, тоска, одиночество. Помоги, Господи!
Всё искажено и изломано, как в кривом зеркале, всё не так, как хотелось бы. Будто специально, будто искусственно придумывают для нас трудности, которые мы преодолеваем всю жизнь, ставят барьеры, которые мы должны перескакивать, и гонят нас, гонят неизвестно куда. Что гонит его, почему он должен уехать? И почему, если уж он уезжает, я не могу ехать с ним? Кто придумал, кто навязал нам эти дурацкие, нечеловеческие законы? Кто виноват в том, что рвутся сердца и судьбы, и любовь?
Прости меня, Господи! Я люблю его. Сохрани, Господи, нашу любовь.
Я всю жизнь ждала его. Я металась по жизни, я искала его и грешила, потому что его не было со мной. Я искала опору и поддержку, но его не было со мной. Я была одинока душой и свыклась с этим, и научилась оставаться одна, потому что его не было со мной. Пусть поздно он пришел ко мне, но я дождалась его. Я только успела привыкнуть к нему, я только начала чувствовать и думать, как он, я только стала понимать его и лучше узнавать себя. Мы уже дышали единым дыханием и мечтали вместе, мы хотели иметь детей. Мы любили и только начинали жить. Только-только… Что вы с ним сделали? Каким зельем одурманили его? За что, зачем вы отняли его у меня? В чем виноваты мы? В чем виновата наша любовь? За что нас так? Зачем?
Я люблю его. Я буду ждать его. Спаси и сохрани нас, Господи! Сохрани, Господи, нашу любовь.
VIII
«Любимый мой!
Я знаю: если у нас родится ребенок, ты его в зубах будешь носить. Я знаю: ты его всему научишь и всё расскажешь так, как только ты один умеешь рассказывать. Он вырастит таким же умным и добрым, как ты. Он будет похож на нас, он будет лучше нас. И я очень хочу, чтобы он был счастливым, чтобы он встретил в жизни свою любовь, такую же сильную, как наша».
«Милый мой, дорогой, любимый!
Вот я и вошла в свое привычное состояние: ты уехал, я осталась одна, опять жду тебя и твои письма и снова пишу тебе. Я по тебе скучаю, всё время о тебе думаю. Погода стоит холодная, почти каждый день дожди, сырость. Вот и сейчас за окном стучат капли дождя, я сижу на кухне и пишу тебе. И мне кажется, что на улице зима, настолько сильно мне врезались в память эти зимние долгие вечера, когда я вот также сидела на кухне и писала тебе, а в душе у меня творилось что-то страшное. Сейчас совсем иначе, я спокойнее, увереннее, но всё равно как-то не так себя чувствую, даже не могу объяснить. Опять эта неопределенность, непонятность и, в некотором отношении, безысходность. Мне не хватает твоего оптимизма, энергии, у меня на душе постоянно какая-то тяжесть, жизнь я перестала воспринимать с радостью, какая-то пассивность, депрессия, из которой я, как мне кажется, уже никогда не выйду.
Человек ко всему привыкает, даже к разлуке, и это начинает казаться естественным состоянием. Я уже привыкла к тому, что всё время тебя жду, жду, жду, и это бесконечно. И так, наверно, будет всегда, во всяком случае, очень долго. И я с этим смирилась, я стала какой-то другой, жизнь всё меньше и меньше меня радует, и ничего хорошего я от нее не жду. Твое письмо такое хорошее, оптимистичное, такое, как ты сам. Но мне всё равно очень грустно. Грустно и печально. И я даже не знаю, в чем основная причина. Не знаю. Всё как-то не так, как хотелось бы. Всё как-то перевернуто с ног на голову, какой-то сплошной идиотизм. То, что казалось бы, должно быть естественным и единственно правильным, недосягаемо или очень-очень далеко. Ты прости меня за мое такое мрачное настроение, но мне ужасно тяжело. И даже не потому, что ты уехал, а потому, что я перестала радоваться жизни, что-то во мне перевернулось. И не говори, что это усталость. Нет, это всё гораздо серьезнее. Только, ради Бога, не подумай, что я тебя разлюбила. Нет, я тебя люблю, и никого другого мне не надо в жизни. Но есть некоторые барьеры, через которые ни я, ни ты не можем переступить, и, видимо, они всегда будут между нами, и жизнь наша будет омрачаться бесконечными проблемами, решать которые я уже не в состоянии. У меня больше нет сил, ни душевных, ни физических. Я и так слишком много отдала, чтобы быть с тобой. Больше я не в состоянии еще чем-либо жертвовать, не могу, понимаешь, не могу. И не осуждай меня, потому что совесть моя чиста перед тобой».
«… Как сильно я соскучилась по тебе, любовь моя! Как мне тебя не хватает, как тоскливо и одиноко бывает порой, что просто слезы подступают. Я не гоню время, но мне кажется, что уже давно-давно я без тебя и еще долго-долго мне без тебя быть. Родной ты мой, никого мне не надо, только тебя я люблю, очень сильно, и письма твои перечитываю по сто раз, но мне надоело общаться с тобой письмами, я хочу тебя видеть, говорить с тобой, целовать тебя, чувствовать тебя рядом. Я знаю, что ты на это скажешь: «Подожди, Иришенька, еще немного». Конечно же, я подожду, судьба у меня, видно, такая: всё ждать и ждать и бороться за свое счастье. А сил всё меньше, но ты не думай, что я отступлю. Ты приедешь, и всё встанет на свои места. Вместе будет легче. Ты мне очень нужен. Почти каждую ночь ты мне снишься, сегодня приснилось, как будто мы в «Березовой роще», лето… Я живу прошлым и будущим, а мне хочется жить еще и настоящим. Без тебя я живу наполовину. Тяжело. Знаю, что и тебе без меня плохо. И поэтому хочу, чтобы поскорее ты приехал домой. И жду тебя очень-очень!
Я что-то очень стала уставать. Может быть, погода меняется, или это усталость накапливается, но часто стала кружиться голова, сплю со снотворным, нервы – никуда. Приезжай скорее, и я буду совсем другой…»
«Родной мой, любимый, единственный!
Я снова в Софрино. Рука не успевает за моими мыслями, любовь моя, счастье мое. Как сильно я люблю тебя, мне надо как-то это сказать, пусть пока я не смогу отправить тебе этого письма, потом ты все прочитаешь, когда приедешь. Я жду не дождусь этого момента. Если бы ты только знал, как я по тебе скучаю, тоскую, плачу каждый день, ты бы всё бросил и примчался бы ко мне, милый мой, единственный. Я знала, что будет плохо без тебя, но не думала, что это будет так плохо. Просто невыносимо. Но я буду ждать, столько, сколько надо. Я готова ждать тебя всю жизнь, потому что без тебя и без надежды, что я буду с тобой, я умру.
Нас поселили в старом корпусе. Я готова целовать дверь номера, в котором ты жил, целовать здесь каждую веточку и тропинку. Я не знаю, хорошо это или плохо, что я все-таки сюда приехала, но ты везде со мной, где бы я ни была, я всё время ощущаю тебя рядом, говорю с тобой, целую тебя и очень-очень переживаю за тебя. Я так хочу, чтобы у тебя, у нас всё было хорошо, чтобы мы были вместе на всю жизнь. Я люблю тебя. И сейчас чувствую, что без тебя я просто не могу, что живу я воспоминаниями и надеждой на будущее, а без тебя я просто существую. Любимый мой, нежный, самый удивительный! Никого я даже замечать не хочу, никого даже рядом с тобой не могу поставить. Я такая счастливая женщина. Даже тех минут, что мы были вместе, достаточно, чтобы быть всю жизнь счастливой. Но мне этого мало. Я должна быть с тобой всегда, любить тебя всегда, заботиться о тебе всегда, родной мой. Приезжай…»
«… Настроение у меня прыгает, как стрелка барометра. То я такая счастливая, веселая, то, наоборот, грустная, тоскливая, мрачная. А всё из-за моего дурацкого неопределенного положения. И нет этому конца. Сколько же еще ждать, один Бог знает. Как ужасно иногда складываются обстоятельства, как сильно приходится страдать. Но, наверное, действительно счастье познается через страдания. Только когда оно будет, это счастье? Пиши мне почаще. Только твои письма помогут мне. Береги себя, очень прошу.
…Я всё время молю Бога о твоем здоровье и о твоей работе. Каждый день и каждую ночь я прошу об одном и том же: чтобы все мы и родные наши были здоровы, и чтобы не случалось с нами несчастий. А всё остальное придет. Нужно только немного подождать и потерпеть, правда?..»
…Она не дождалась его. В один из мартовских снежных дней, когда ярко светило солнце, и голубизной сияло небо, она наложила на себя руки.
IX
Павел Петрович сидел на кухне в московской пустой, чужой квартире и писал письмо. За несколько месяцев после его возвращения что-то сместилось в его сознании, и порой он не различал прошлое и настоящее, память вырывала куски из ушедших дней и превращала их в день сегодняшний. В его уставшем от бессонницы и непонимания мозгу перемешались события и люди, и живые казались ему призраками, а умершие жили рядом с ним.
«Любимая, единственная моя Иришенька!
Странное, двойственное чувство не покидает меня. Наконец-то я дома, а дома нет у меня. Наконец-то я вернулся к тебе, моя женушка, а тебя нет рядом со мной. Будто я ошибся во времени, и чужие люди окружают меня, а тебя нет со мной; будто я что-то перепутал и ищу тебя не там, а ты меня ждешь где-то; будто я забыл заветное слово: я зову тебя, а ты не откликаешься. Я хожу по нашему с тобой городу, и ты идешь рядом, но я протягиваю руку, чтобы обнять твои плечи и прижать к себе, но не нахожу тебя. Я вижу всюду твою улыбку и бегу к тебе, но она растворяется в воздухе. Я слышу ежесекундно твой голос, но ты где-то далеко, так далеко, что не видишь и не слышишь меня. Я силюсь понять и не могу: я вернулся к тебе, моя любовь, а ты прячешься от меня в этом большом, темном городе и не узнаешь меня. И в то же время ты где-то постоянно рядом, потому что я узнаю твои шаги в соседней комнате, я замечаю твое лицо в толпе прохожих, ты зовешь меня ласково и нежно, а потом исчезаешь вновь. Я знаю, что ты здесь, но почему же ты не хочешь видеть меня, моя половинушка? Эти годы я жил и дышал наполовину, и никто не догадывался, что у меня лишь половина сердца, а вторую я оставил тебе, но я вернулся, а ты не приходишь ко мне, и некому заполнить пустоту в груди. Что-то нехорошее происходит со мной, какая-то главная струна оборвалась в моей душе, и только ты могла бы объяснить, что со мной. Я перестал любить жизнь. Я будто потерял ключ к этой жизни и теперь никогда не смогу войти в нее, а ты не хочешь мне помочь и прячешь этот ключ у себя. Я не могу жить без тебя, цветочек мой аленький, я гляжу на людей и не вижу их, я никого не хочу видеть, кроме тебя. Я смотрю на мир незрячими глазами, краски пожухли в нем, и он стал черно-белым. Я закрываю глаза, и только тогда ты возвращаешься ко мне и целуешь меня, как прежде, и я боюсь открывать их, боюсь снова потерять тебя. Я закрываю глаза, и в моей голове начинает звучать и петь райская мелодия, под которую мы танцевали с тобой, и я прижимаю тебя к своей груди так крепко, будто навеки хочу спаять наши сердца, и маленький мой обрубок бьется сильнее, и я понимаю, что еще живу.
Я ищу и не могу найти тебя, мое счастье. Без тебя я перестал понимать себя и свою жизнь. Вместе с тобой что-то главное во мне самом ушло безвозвратно, без тебя что-то потеряно навеки: зрение, слух, смысл. Для чего я живу? Мы приходим в этот мир с надеждой одарить себя и человечество самим своим появлением на свет. Но человечество не нуждается в нас и даже не знает о нашем существовании. Да и что мы можем дать человечеству, когда мы себя не умеем сделать счастливыми. Мы дороги двум-трем людям на свете, но и они уходят из жизни, и когда придет наш черед умирать, никто на земле не вспомнит о нас и не помянет добрым словом. Мы прокатываемся, как волны, по жизни один за другим и разбиваемся о последний берег, не задерживаясь в памяти людской. Выходит, нет у человека, этого божьего творения или чуда природы, иного, высшего предназначения, чем есть, спать, двигаться и удовлетворять свои биологические потребности до тех пор, пока не кончится завод в его организме? Лишь для этого я живу? Я не хочу, не могу так жить. Мне кажется, что всё-таки есть, должен быть какой-то иной, может быть, христианский смысл в нашем существовании. Но на добро люди отвечают злом, да и чем я могу быть полезен людям и чему могу их научить, если сам давно кручусь вхолостую, как ненужная шестеренка, выпавшая из механизма.
Я всегда считал себя добрым человеком и не хотел никому зла, но приносил только боль и страдание близким моим. Почему так? Или недостаточно быть только добрым человеком? Для чего же рождается и умирает человек на этой земле? Для себя, для семьи, для любви? С тобой, Иришенька, я потерял и любовь, и семью, и себя. Оказалось, что главным и единственно верным в моей жизни была ты, а остальное было ненужным и неважным. Жизнь – это калейдоскоп дел, событий, лиц, встреч и утрат, мыслей и чувств, из которого память сама выбирает и прячет самое ценное: плохое или хорошее, но самое важное в человеческой жизни. Моя память сохранила лишь недолгие наши счастливые дни и нашу любовь, твое лицо и твою улыбку, тебя – любящую и любимую, – и твои письма. Кроме этого не осталось ничего, стерлось – никчемное и пустое – без следа.
С тех пор, как я уехал, Иришенька, я всё время топчусь на месте в каком-то тупике. Передо мной глухая стена, а обратно вернуться невозможно. Горько сознавать, пройдя жизнь до половины, что прожил ее не так, что ничего не совершив, ничего не открыв, оказался один в тупике. По чьей вине? По своей ли, по чужой? Страшно понимать, что даже если рухнут вокруг нас стены и распахнется над нами небо, и не надо будет бояться и прятаться, и дадут нам, наконец, просто дышать, любить, искать, творить и жить, то останется самая высокая, прессовавшаяся по песчинке, возводившаяся годами по кирпичику стена – внутри нас, через которую уже не перелететь никогда на наших подрезанных с детства крыльях. Нас еще хватит на то, чтобы задуматься, как мы могли так жить, но переделать себя уже не сумеем, и тем больнее мы – духовные холопы – будем корчиться от осознания своего бесплодия и бессилия и бежать по инерции на месте до конца дней своих.
Я верю, что придут новые поколения, лучше, добрее, сильнее и счастливее нас, которые с рожденья смогут без страха, гордо, достойно и честно смотреть в лицо жизни, но не мы, но не я.
Я так любил жизнь, я так любил солнце, воздух и лес, я так любил тебя. Я жил мечтой и надеждой. Но, наверно, я всего лишь мечтатель, и всё это я придумал: и солнце, и воздух, и лес, и тебя. Нет ничего этого: солнце погасло, лес повырубили, воздух загадили, ты ушла. И нечем дышать, и не для чего жить. И осталось только рвануться к тому последнему берегу и выпасть навсегда из памяти людской.
Прости меня. Прощай, моя любовь».
X
Павел Петрович не умер. Я часто встречаю его в соседнем пивном баре, что стоит на бульваре за церковью. Это безобидный спившийся старичок. Обычно он сидит один в дымном углу и пьет кружку за кружкой, ни с кем не вступая в разговор. Как-то по дороге в бар я увидел его у церковной ограды. Он стоял, сняв шапку, но в церковь не заходил.
– Дядя Паша, ты что, верующий? – окликнул я его.
Он обернулся в мою сторону, но словно меня не узнал. На глазах у него были слезы. Он стоял так долго, будто молился про себя за оградой, потом повернулся и ушел куда-то в сторону. Что же, пусть стоит, смотрит, никому он не мешает.
Через несколько дней после этой встречи мы сидели в баре за одним столом, и он неожиданно заговорил со мной, как бы продолжая начатый разговор:
– Каждый человек должен верить, любить и надеяться. Иначе он не человек, не человек в высшем смысле этого слова. Много чего у нас в жизни отнято, еще больше потеряно по собственной глупости и трусости. Но даже если любовь осталась только в воспоминаниях, а надежды нет никакой, веру человек до последнего вздоха нести обязан.
– Дядя Паша, а ты крещеный?
– В том-то и дело, что нет, – с какой-то пьяной силой ответил он. – Хотел когда-то покреститься, а теперь поздно. Была когда-то женщина, которая молилась за меня, да нет уже ее.
С этого разговора мы стали ближе с Павлом Петровичем. Он рассказывал мне за кружкой пива про далекие страны, в которых бывал когда-то, особенно любил почему-то вспоминать об Африке, но странно: казалось, что ему и приятно, и больно говорить об этом. Врал, конечно, но слушать его было интересно.
Часто, сидя в своем углу за залитым пивом столом, он вынимал из кармана трясущимися руками какие-то замусоленные старые конверты и, шевеля губами, перебирал их, гладя пальцами, как делают слепые, будто читал про себя то, что хранилось в каждом из них.
Потом он доставал чистый лист бумаги, аккуратно клал его на стол, выбирая сухое место, и писал всегда только несколько слов – всего одну строчку. Написав их, он поднимал выцветшие глаза и смотрел через стол, через зал, будто пытался разглядеть далеко за стенами пивного бара что-то такое, что мучило его давно и не давало покою.
Однажды я случайно подсмотрел то, что он пишет. Это было начало письма:
«Любимая, единственная моя Иришенька!»
Анино счастье
I
Аня гуляет за домом в саду и улыбается. Как же хорошо дома. Мама выглядывает в окно, отец командует приказчиками в лавке, дедушка дремлет в кресле, младшие братья, Коля и Гриша, играют в комнатах. Еще года не прошло, как она окончила гимназию, а будто давно-давно. Только фотография в гостиной, где Аня в гимназическом платье, напоминает о строгих годах учебы. Как тепло светит солнце. Их вишневый сад в цвету. Белый аромат кружит голову, и мысли мешаются в голове, одна приятнее другой. Сегодня опять придет Миша, и они будут пить чай в столовой. Скоро лето, сад нальется вишней, и они станут собирать ее в сверкающие медные тазы. Дедушка постарел. Когда Аня была маленькой, он звал ее к себе: «Аннушка, расчеши мне волосы. Я тебе денежку дам». А она смеялась, потому что знала: дедушка быстро заснет, и она побежит играть в сад. Это дедушка построил их дом и подарил его маме на свадьбу. Большой дом, крепкий, бревенчатый, в самом центре Суздаля. А на фасаде его вензель, три буквы «А» – Аронов Андрей Андреевич.
Миша приходит к ним каждый день. Он старше ее на два года и окончил коммерческое училище. Они знают друг друга с детства, их дом стоит на въезде в город. Теперь он совсем взрослый, и когда она его видит, так начинает биться сердце, что становится боязно, как бы кто ни услышал. Аня старается быть серьезной при нем, но хочется улыбаться без причины. Маленькая, худенькая, с собранными бантом в пучок на затылке каштановыми волосами, она кажется девочкой-гимназисткой рядом с ним.
– Аннушка, Аннушка, – зовет в окно мама, – иди скорей, Миша пришел.
Мишины волосы расчесаны на прямой пробор, брови вразлет, губы немного пухлые, карие глаза притягивают к себе.
– Сейчас я отца позову, – говорит мама и выходит за дверь.
Миша стоит неестественно прямо, Аня замерла на пороге и уже догадывается.
– Анюта, я уже сказал Варваре Андреевне. Я хочу сделать тебе предложение. Ты согласна?
Анино сердце стучит и рвется из груди, и она чуть слышно отвечает: «Да».
Они так и стоят, не шелохнувшись, и смотрят друг другу в глаза, когда приходят отец с матерью. Петр Петрович снимает икону с образов: «Благослови вас Бог, дети». Мама вытирает слезу.
До венчания оставалось недолго, женщины хлопотали и суетились, а в центре этой суеты была Аня. Она все эти дни не выходила на улицу, примеряла свадебное платье и беспрестанно улыбалась. «Ну что я, как дурочка, надо быть посерьезней», – говорила она себе. «Он самый хороший, самый добрый, я его люблю», – и не могла не улыбаться своим мыслям. Иногда хотелось остаться одной, и она выходила в сад. Вишневые деревья склонялись над ней свадебными лепестками и благословляли ее.
В церкви пахло ладаном и свечами. За Аниной спиной чинно стояли родственники и знакомые, но она лишь ощущала их присутствие, смотрела прямо перед собой на золотую рясу венчавшего их батюшки и только потом почувствовала, как Миша поднял ее руку и надел на палец кольцо.
Жить они стали в доме Мишиных родителей. Дом был каменный, двухэтажный и выделялся среди соседских построек. А семья была большой: Мишины родители и шестеро его братьев и сестер. Их с Мишей комната Ане понравилась: светлая и уютная.
Клонился к своей середине четырнадцатый год. Они отправились в свадебное путешествие: сначала в Москву, потом в Варшаву. Больше всего запомнилось Ане, как они фотографировались на Кузнецком мосту. Эти снимки сохранились на всю жизнь и на фотографических карточках, и в ее памяти. Она сидит в светлом платье с кружевами, а ее запястье обвивает Мишин свадебный подарок – золотые часы с бирюзовой каемкой и бриллиантами. Он стоит рядом в модном костюме, при галстуке, серьезный, родной.
Когда они вернулись в Суздаль, объявили мобилизацию, и однажды Миша пришел домой в мундире прапорщика. Мундир ему очень шел, но было тревожно на душе.
Через несколько дней началась война. Вечером они сидели, обнявшись, в гостиной. Аня положила ему голову на плечо и притихла. Молчал и Миша. А наутро он прижал ее к себе, поцеловал и уехал на фронт.
II
Из дневника Анны.
Теперь я стала Аней Жилиной. Но, Боже, как недолго мы побыли вместе. После нашего расставания Мишин отец позвал меня к себе и сказал:
– Если хочешь, возвращайся к родителям. Неизвестно, когда кончится война. Решай сама, но знай: это теперь и твой дом.
Когда я пришла навестить своих, они сидели во дворе за большим столом, а посередине кипел самовар. Мне припомнилась давняя история из детства: мы так же сидели перед домом, и кипел самовар, когда к нам ворвался какой-то мужик, схватил самовар вытянутыми руками и убежал. Его так и не догнали, но мы часто потом смеялись над этим случаем.
Я обняла отца, мать, братьев, дедушку и присела рядом. Разговор не клеился. Наконец, отец спросил прямо:
– Ты там останешься или домой вернешься, пока он воюет?
– Я буду к вам приходить, но жить буду в доме своего мужа. Так будет правильнее.
На том мы и попрощались.
Когда я сказала об этом Александру Васильевичу, Мишин папа потеплел лицом и ответил:
– Вот и хорошо, дочка. Будем ждать вместе.
В семье меня приняли с любовью. Да и люди они были хорошие: добрые, приветливые. Я подружилась с Мишиными сестрами и эту дружбу сберегла на всю жизнь. По воскресеньям мы семьей ходили в церковь, и прохожие смотрели на меня с уважением. Я – жена офицера русской армии. Я чувствовала гордость и беспокойство за него. Но верила: все будет хорошо, скоро кончится война, и он вернется ко мне. Все говорили: «К рождеству война кончится». Осталось подождать совсем немного. Настроение у меня менялось ежечасно: то я бродила по дому бесцельно, и мне старались не мешать, то вдруг я понимала, что нужно немедленно пойти в церковь и поставить свечку за здравие, то я подходила к Мишиной старшей сестре Варе и говорила: «Варюша, посиди со мной».
Писем не было долго. Когда от него пришло первое письмо, я боялась его распечатать, я целовала его и носилась, как сумасшедшая, по дому: «Идите сюда скорее. Миша письмо прислал». Наконец, мы все уселись в гостиной за круглым столом. Я присела ближе к изразцовой печи, меня всю трясло. Александр Васильевич раскрыл письмо и начал читать:
«Здравствуйте, родные мои. Пишу это письмо, а перед глазами у меня выплывают из памяти ваши любимые лица и наш дом. Я немного пообвыкся на фронте. Война – это совсем не то, что вы себе представляете. Снаряды, верно, летают, но не так уж густо, и не так уж много людей погибает. Война сейчас вовсе не ужас, да и вообще, – есть ли на свете ужасы? В конце концов, можно себе и из самых пустяков составить ужасное, – дико ужасное. Летит, например, снаряд. Если думать, как он тебя убьет, как ты будешь стонать, ползать, как будешь медленно уходить из жизни, – в самом деле, становится страшно. Если же спокойно, умозрительно глядеть на вещи, то рассуждаешь так: он может убить, верно, но что же делать? – ведь страхом делу не поможешь, – чего же волноваться? Кипеть в собственном страхе, мучиться без мученья? Пока жив – дыши. К чему отравлять жизнь страхом без пользы и без нужды, жизнь, такую короткую и такую непостоянную? Да потом, если думать: „тут смерть, да тут смерть“, – так и совсем страшно будет. Смерть везде, и нигде от нее не спрячешься, ведь и в конце концов все мы должны умереть. И я сейчас думаю: „Я не умру, вот не умру, да и только, как тут не будь, что тут не делайся“, и не верю почти, что вообще умру, – я сейчас живу, я себя чувствую, – чего же мне думать о смерти».
– Аннушка, возьми письмо, почитай одна. Дальше Миша пишет тебе.
Наталья Гавриловна шептала: «Слава Богу, жив. Слава тебе, Господи». Варя, Даша и Лиза вытирали слезы. Маленькая Фроня притихла. Старший брат Саша смотрел на отца, и я знала, что он переживает из-за того, что по зрению его не взяли в армию. Младший Андрей мечтательно улыбался, он заканчивал артиллерийское училище и с нетерпением ждал, когда его призовут. Александр Васильевич прятал радость за строгим лицом и напоминал мне Мишу.
Дрожащими пальцами я взяла письмо, извинилась и побежала к себе в комнату.
«Анюточка, любимая моя женушка. Я уже очень хорошо знаю тебя и знаю, как ты беспокоишься и прячешь в душе свою тревогу. Не печалься и не переживай обо мне. Я вернусь, обещаю. Ты у меня есть, и я просто не могу исчезнуть из нашей жизни. Я пишу это письмо в своей хибаре, а вижу твои глаза, глубокие и большие твои глаза. Будто ты рядом и глядишь на меня. Помнишь, перед вашим домом росли анютины глазки? Я забыл тебе сказать: теперь это самые любимые мои цветы. Ты самая хорошая, самая добрая, самая красивая».
Я прижимала письмо к груди и к губам и перечитывала его много раз и много дней. Ко мне вернулась уверенность и на время спокойствие.
Подошло рождество, а война все не кончалась. На фронт ушел Андрей, и в доме стало необычно тихо, неуютно и неспокойно, хотя в семье никто об этом не говорил. Как цветок распускается и тянется к солнцу, так и я оживала вместе с каждым его письмом.
«Находясь на позиции в сочельник вечером, я как-то невольно мыслями переносился к вам: сначала суетня на улицах, потом постепенное прекращение уличной сутолки, и, наконец, начинается звон в церквях, какой-то торжественный, праздничный, начало службы великим повечерием и вот уже всенощная. Народ по окончании высыпает из церквей и расходится в радостном, праздничном настроении. Здесь же было совершенно тихо и у нас, и у немцев, и даже в воздухе. Ночь была звездная и нехолодная, и эта тишина особенно нагоняла грусть, и сильнее чувствовалась оторванность от вас».
А я молилась за него, за спасение близких, за победу над врагом и скорейшее окончание войны. Что мне оставалось? – ждать и молиться.
III
Из дневника Анны.
До самой смерти я не забуду этот день. Мы обедали в столовой, когда распахнулась дверь, и вошел он. Миша остановился на пороге, и тогда все пришло в движение. Я бросилась ему на шею, Варя, Даша и Лиза повисли на нем с двух сторон, Фроня вцепилась в мундир, Саша схватил его за руку. Александр Васильевич встал и застыл, Наталья Гавриловна уронила руки и заплакала. Миша нас всех целовал и улыбался, потом прижался к матери и обнял отца.
– Ты надолго, сын? – первым вымолвил слово Александр Васильевич.
– В отпуск на две недели.
Эти слова занозой кольнули голову. «Только на две недели? Как же так? Ведь я не видела его почти целый год».
– Мишенька, садись за стол или ты отдохнуть хочешь? – спросила Наталья Гавриловна.
– Нет, нет, отдыхать потом. Дайте я на вас посмотрю. А где же Андрюша?
– В армии. Он артиллерист.
– Пишет?
– Да, шутит в письмах, наверно, чтобы нас успокоить. Пишет, что привык засыпать рядом с пушкой.
– Как на фронте? Рассказывай.
Миша сидел рядом со мной и говорил, а я не столько слышала его, сколько чувствовала. Он изменился. Не ко мне изменился, не совсем изменился, а что-то новое, военное появилось в нем. Куда делись его волнистые волосы? – он был наголо побрит. Усы, но не густые, делали его лицо старше и мужественнее. Подбородок был чисто выбрит и казался тяжелым. Взгляд стал спокойнее, но строже. Мундир и блестящие сапоги совсем превращали его в военного человека.
Мы все вместе вышли в сад. Снова цвели вишни, и это новое цветение вселяло в меня надежду на постоянство и бесконечность нашей жизни.
Пришла Мишина тетя, настоятельница Покровского женского монастыря, перекрестила его и благословила.
После вечернего чаепития мы поднялись с Мишей в нашу комнату и остались вдвоем.
Наутро пошли навестить моих родителей. Перед домом цвели анютины глазки. Потом гуляли по городу, и мне было приятно, как нас уважительно приветствовали на улице. Миша – боевой офицер, мой муж, самый прекрасный человек на свете, я брала его под руку и прижималась к его плечу.
В Воскресенской церкви, как и в день нашего венчания, отдавали свое тепло трепетные свечи, и голоса женского хора возносились к ангелам и просили о милости к нам. Народу было не очень много. Мы перекрестились перед алтарем и помолились, и поставили свечи за здравие наших родных и за упокой тех, кто не вернулся с войны.
Две недели промелькнули, как один счастливый блаженный миг. В последний вечер нас оставили одних в гостиной. Родные ступали тихо в своих комнатах, чтобы не помешать нашему прощанию.
– Мишенька, пиши почаще, пожалуйста. И я прошу тебя, очень прошу – береги себя. Я каждый день, когда ты был на фронте, молилась за тебя. Я буду молиться за тебя, я знаю, я верю, Бог сохранит нас.
Миша целовал мои губы, и было так сладко и надежно рядом с ним.
А на следующий день дом будто опустел и онемел без него. А я словно оглохла и спряталась в свой панцирь в ожидании. Я перебирала в памяти каждую минуту ушедших радостных двух недель, и оставались только вера и надежда.
Письма от Миши приходили и освещали нашу повседневную жизнь, как лучик солнца в окне. Может быть, я ошибаюсь, но они перестали быть такими светлыми, как прежде.
«…Мы совершали марш-бросок на передовую. Я хорошо знал эти минуты перед боем, когда при автоматической ходьбе у тебя нет возможности отвлечься, обмануть себя какой-нибудь, хотя бы ненужной работой, когда нервы еще не перегорели от ужасов непосредственно в лицо смотрящей смерти. Быстро циркулирующая кровь еще не затуманила мозги. А кажущаяся неизбежной смерть стоит все так же близко. Все существо, весь здоровый организм протестует против насилия, против своего уничтожения…»
«…Есть страх, который у человека парализует волю полностью, а есть страх иного рода: он раскрывает в тебе такие силы и возможности, о которых ты раньше не предполагал…»
«…Кто-то обезумевшим голосом громко и заливисто завопил: „У-рра-а-ааа“. И все, казалось, только этого и ждали. Разом все заорали, заглушая ружейную стрельбу. На параде „ура“ звучит искусственно, в бою это же „ура“ – дикий хаос звуков, звериный вопль. „Ура“ – татарское слово. Это значит – бей. Его занесли к нам, вероятно, полчища Батыя. В этом истерическом вопле сливается и ненависть к врагу, и боязнь расстаться с собственной жизнью».
Прошло полгода, и письма приходить перестали. Дом помертвел. Александр Васильевич каждый день просматривал в газетах списки офицеров, там печатали: такой-то убит, такой-то ранен, пропал без вести. Я не могла, я боялась брать в руки газету. Мы все бродили по дому, как привидения, и не решались сказать лишнее слово.
– Аннушка, ну погоди, успокойся. Всякое бывает: может быть, его часть перебрасывают, и некогда писать, или бои идут, или марш-бросок, – говорил мне Александр Васильевич.
Однажды он позвал нас всех к себе в кабинет, ткнул пальцем в газетную строчку и прочитал: «Прапорщик Жилин Михаил Александрович, пропал без вести». Голос его задрожал:
– Видите, не убит, не ранен, а пропал без вести. Значит жив, значит скоро даст знать о себе.
Нерадостным рождеством пришел к нам шестнадцатый год, протянулся черной тоской и сменился на год семнадцатый. Вестей от Миши так и не было.
Я ждала, я молилась, я ставила за него свечи в церкви, я не могла не верить, даже когда ловила на себе сочувственные взгляды родных. Я продолжала существовать, двигаться, делать какую-то домашнюю работу, но это была не я, а мой молчаливый двойник. Я настоящая спряталась до времени, я настоящая, по-прежнему, надеялась и жила этой надеждой, и ждала, и знала, что он обязательно вернется.
Отрекся от престола царь. В городе происходили перемены, появились какие-то Советы. Я была далека от всего этого, да и люди, как жили, так и продолжали жить.
В конце семнадцатого года вернулся домой Андрюша, наш бравый артиллерист. Он мне говорил, не переставая:
– Понимаешь, Анюта, поверь мне: на войне такое бывает, что представить себе невозможно. Например, видели, как офицер погиб в бою, а он – вот он, живой. А, может быть, в плен попал. Так ведь и там люди живут. А сейчас такая неразбериха творится, что и почта не ходит. Вернется Миша, вернется.
Мне было радостно его слушать, ведь он воевал, он знает. Вслед за ним меня успокаивали и родители, и сестры, и Саша: «Вернется, конечно, вернется». Я чувствовала всегда, что он жив, но пришла ко мне с этими словами какая-то новая уверенность.
Два месяца спустя Миша пришел домой. Он был жутко худой, небритый и отстраненный. Первым делом он пошел в баню, а потом проспал двое суток. Только после этого мы все собрались в гостиной, Миша переоделся в штатское, снова стал похож на себя самого и начал рассказывать.
– Шли бои за Вильну, когда меня ранило. Очнулся я уже у германцев. Так и попал к ним в плен.
Мы слушали, затаив дыхание, а я не отрывала от него сияющих глаз.
– Анюта, перестань на него так смотреть, – вставил Андрюша, – а то Миша сейчас расплавится от твоего взгляда.
– Ну, тебя, вечно ты со своими шутками. Миша, дальше рассказывай.
– Это было в начале шестнадцатого, и пробыл я у них почти год, а потом бежал.
– Как бежал? Как же это удалось? Ведь если бы поймали, расстреляли.
– Да, расстреляли бы. В войсках начиналось брожение, воевать устали все, и немцы тоже. И охраняли нас уже не так строго. Удалось как-то выбраться. Так и двигался на восток: ночью шел, днем прятался. Бывало по несколько дней есть было нечего. Позиции я обходил стороной, но было уже ясно: и с той, и с другой стороны никто больше не хотел стрелять, солдаты разбегались, война кончилась. Так и прошел я пешком всю Пруссию и пол России. Так и дошел.
Я смотрела на него и думала: «Бедный, сколько же ему перетерпеть пришлось. Родной мой, как я его люблю. Главное, что мы снова вместе, главное, что мы любим друг друга, как раньше, даже сильнее».
Над страной сгущались тучи, надвигалась буря, но в те дни мы не страшились ее. Казалось, что самое плохое позади, и мы старались не думать о том, что нас ждет завтра. Был только сегодняшний день, и он сулил нам счастье.
Наваждение
«Кто я, что я, только лишь мечтатель,
Синь очей утративший во мгле,
Эту жизнь прожил я словно кстати,
Заодно с другими на земле».
С. Есенин
ВСТУПЛЕНИЕ
Падал крупный снег. За окном было темно и неуютно. Мерное покачивание трамвая, кружащиеся на улице белые легкие хлопья убаюкивали Сергея и навевали приятную дрему. Трамвайное стекло прочно отгораживало его от холода и темноты, и сквозь первые снежинки крадущейся по земле зимы он неотрывно смотрел на проплывающие мимо, словно картинки в немом кино, светящиеся витрины магазинов и окна домов, не задерживаясь на них взглядом, не замечая торопливых пассажиров, не оборачиваясь и не вслушиваясь в их голоса. Трамвай представлялся ему маленькой лодкой, подхватившей и несущей его по морю большого города, от одной бухточки к другой. Сергей Васильевич Привалов любил эти поздние поездки в полупустом трамвае, ощущая приходящее к нему в эти минуты состояние потерянности во времени и пространстве. Ему нравилось смотреть из своего укрытия, как вихрится и успокаивается, шуршит и падает пушистый, бесконечный снег, так похожий на легкую бездумность – передышку от забот и суеты, наполнявшую его самого. Покачивающаяся неторопливость несущего его суденышка как нельзя лучше соответствовала его настроению.
Спешить ему было некуда. В доме, который он называл своим по привычке, его никто не ждал. Хотя были там и жена, и сын. С женой они не жили и не разводились, а сына любили и терзали, то ревностью, то ласками, каждый по-своему, так что в свои тридцать пять лет Привалов успел впитать в себя и детские внезапные слезы, и нехитрую ложь, и прорывающиеся вдруг замкнутость и отчужденность. Маленькая квартира и маленький сын стали для них тем ненадежным якорем, который еще удерживал на месте останки их разбитого в жизненных трясках и качках корабля, называвшегося когда-то любовью. Состояние подвешенности и неопределенности постепенно даже вошло в привычку, и так, как привыкают ко всему, Привалов давно привык к мысли, что жена не любит его, и он ее тоже, что деваться некуда, а надо жить, пусть без любви, двигаться, работать, вставать, ложиться, уходить и возвращаться, – каждый день, каждый день.
Сергей работал инженером в маленьком конструкторском бюро, получал два раза в месяц небольшую зарплату и вот уже больше десяти лет, с тех пор, как его распределили туда после окончания института, занимал все ту же тихую и невидную должность.
О будущем он старался не думать, иначе становилось слишком тоскливо, потому что оно представлялось ему ровным и однообразным до отвращения, как голая степь. Он старался не думать о прошлом: там остались друзья, которые незаметно разошлись в разные стороны, каждый в свою жизнь, там остались надежды, юношеская пылкость, влюбленность, мечты. Он знал, что ничего этого больше никогда не будет, ничто-ничто не повторится, и успокаивал себя тем, что все живут также, и гнал от себя, как назойливых мух, эти мысли, от которых становилось так тошно. Он старался не думать о своих родителях, к которым заезжал раз в месяц и, в свои тридцать пять лет, просил денег до зарплаты и никогда не отдавал, иначе становилось слишком стыдно за себя и за свою жизнь. Он давно уже не думал о любви, и те короткие, случайные встречи, которые иногда роняла ему жизнь, он принимал с благодарностью и уверенностью, что иначе и быть не может, а если и бывает, то очень редко с другими.
И он любил эту пустую черноту за окном, эту отрешенность мыслей и чувств, возможность забыться и только смотреть, не думая ни о чем, как кружится за окном снег.
Легкий аромат дорогих духов смутил его зазеркальный покой и оторвал от черного стекла. Он полуобернулся и увидел, что через проход напротив, как на другом краю пропасти, сидит молодая женщина: черноволосая, черноглазая, в короткой искристой шубке. Она сидела рядом и очень далеко и издалека улыбнулась ему. Сергей вздрогнул, как от удара током, и резко повернулся к окну. Теперь это темное стекло, ведущее в неизвестность, в никуда, стало для него спасительной возможностью снова спрятаться и убежать обратно в свои бездумные мысли. Но взгляд, помимо него самого, уже не блуждал по проплывающим мимо огням, выныривающим из темноты, а, как в зеркале, ловил отражение незнакомки. Она, кажется, потеряла к нему интерес и смотрела куда-то в сторону. С внутренним страхом и забытым желанием Сергей через силу оторвался от никчемного стекла и, чуть повернув голову, быстро посмотрел в ее сторону. Их глаза встретились. Словно ожегшись, он снова отвернулся к окну, но уже искал там ее лицо.
«Какая потрясающая женщина. И она смотрит на меня», – будоражно подумал Привалов.
В последние годы он разучился принимать решения, но научился анализировать себя и свои поступки. И теперь он лихорадочно думал, пытаясь унять непонятную дрожь в руках и ногах.
«Нет, она смотрит не на меня, она смотрит мимо меня. Кто я ей? Не красавец, не атлет, никто. А может быть, это та, что я искал и ждал всю жизнь? Может быть, еще не поздно все бросить, бросить эту пустую, постылую жизнь и начать все сначала? Ведь я еще на что-то гожусь. Ведь я еще могу себя показать, всем показать, и ей, на что я способен. Если бы такая женщина, как она, была рядом со мной, насколько по-другому, по-новому можно было бы жить, насколько полно можно было бы жить. Как будто из скромности или какого-то непонятного страха мы отщипываем от жизни только маленький кусочек и довольствуемся этим. Ведь она же у нас только одна – эта жизнь – а мы все пережевываем этот кусочек и трусливо считаем, что он и есть наша жизнь. Ведь она такая недолгая, а мы все нищенски выпрашиваем у нее какие-то крохи. Все живем, как будто в прихожей, и не осмеливаемся войти в комнату, все ждем, что нас туда пригласят, что главная жизнь впереди, ждем и топчемся в этой прихожей до самой смерти. И я как будто живу понарошку, люблю понарошку, работаю понарошку, будто я только пишу черновик, будто я ребенок и только еще учусь жить, а настоящая жизнь начнется потом. А ведь ее не будет, все останется, как есть, до конца.
Какая редкая женщина. Может быть, она и вправду смотрела на меня?»
И Сергей осторожно повернул взгляд в ее сторону. Женщина глядела куда-то перед собой, и вдруг ее профиль показался Привалову таким узнаваемым, словно, то ли вчера, то ли сто лет назад, в прошлой жизни, он целовал эту гордую, лебединую, тонкую шею.
«Чего же я еще жду? – жилкой забилась мысль и заколотилось сердце. – Быть может, это та единственная встреча, тот неповторимый, редкий случай, который дарит нам порой судьба, тот всплеск жизни, что перевернет все?»
Он уже не отрывал глаз от нее, а она смотрела в трамвайное пространство.
«Надо немедленно встать и подойти к ней и сказать хоть что-нибудь», – нервно подумал он.
Но ноги вдруг стали тряпичными, руки обмякли, лицо одеревянело, шея застыла, глаза заморозились, и лишь сердце стучало в грудь и сжимало виски. И тогда Сергей Васильевич Привалов с ужасом понял, что повседневное отсутствие слов и мыслей настолько прочно забило его кровь, мозг, язык и поры, что живое чувство, затерявшееся где-то в глубине души, уже не может пробиться наружу и обернуться в слова и поступки. Он ясно вдруг осознал, что все эти годы, прожитые по привычке жить, как все, постепенно, незаметно, вполголоса, вколачивали в него, как осиновый кол, неспособность жить, чувствовать, говорить и думать самостоятельно, и превратили его, в конце концов, из человека, каким он родился и должен был быть, в маленького, трусливого человечка.
«Наваждение какое-то», – суетливо подумал он.
«Надо что-то сказать, что-то сказать, – как молитву, повторял он про себя. – Что она красивая, что она мне нравится, что мне нравятся ее глаза, ее волосы, ее улыбка. Что же сказать?»
Но он уже знал, что никогда не скажет этих слов, потому что опять боится непонятно чего, потому что никогда никому не говорил он и не сможет сказать такие слова. Ему вдруг до спазм в горле стало обидно за себя, за то, что он никогда в жизни никого не любил по-настоящему сильно: ни жену, ни сына, ни родителей, ни даже себя. Ведь так не бывает, не может быть – это слишком жутко – никогда никого не любить и не быть любимым. И так захотелось хоть небольшого, но настоящего понимания, тепла, нежности, любви, счастья.
И тогда торопливо и воровато, оглянувшись через плечо, он снова взглянул на свою соседку и увидел, как с того края пропасти глядят на него и улыбаются ему ее глаза. Сергей почувствовал, как мускулы и кожа его лица напряглись, вобрав каждой клеточкой в себя эту улыбку. Он отчетливо понимал, что именно сейчас надо что-нибудь сказать, встать, улыбнуться в ответ, сделать какое-то движение, хоть что-то, иначе будет поздно, и не мог. Он резко обернулся к спасительному окну, пытаясь унять сумбур в голове и сердце. Он вглядывался в темноту, а перед глазами стояли ее лицо и ее улыбка.
Чей-то чужой голос объявил остановку, и на следующей надо было выходить. Медленно, как лунатик, Сергей встал и подошел к двери. «Если она сейчас выйдет, я с ней заговорю», – сказал он себе чуть ли не вслух.
Привалов вышел из трамвая. До дома оставалось пройти совсем немного вперед. И тут он опять увидел ее, совсем рядом, такую реальную и далекую, как сказка. Она неторопливо прошла мимо и завернула за угол.
I
– Извините, пожалуйста, подождите. Вы смотрели на меня. Мне ваше лицо кажется знакомым. Простите меня. Мы встречались когда-то?
– Наконец-то, Сережа. Узнал? А я все думала, узнаешь или нет? Даже обиделась на тебя. Подумала: не узнает, не подойдет, ну и ладно.
– Я не совсем понимаю, извините.
– Значит, не совсем узнал. Я – Таня Ларина. Вспомнил?
В уличной полутьме лица было почти не видно, но Сережа вспомнил профиль из недавнего трамвайного полусна и теперь понял, где он видел это лицо: в детстве, больше двадцати лет тому назад.
– Таня? Ларина? – робко повторил он.
– Ну да, Таня Ларина. Вспомнил? Мы с тобой сидели за одной партой до третьего класса, а потом еще встречались, забыл?
– Господи. Как же я тебя сразу не узнал. Еще подумал: профиль очень знакомый.
– Эх ты. А я тебя сразу узнала, только ждала, что и ты меня вспомнишь.
Только теперь, как из зыбкого детского сна, всколыхнулось далекое прошлое.
II
Мне было четыре года, когда из Эстонии, где работал мой отец, родители переехали в Москву. От Эстонии в воспоминаниях у меня остался только приятель Вася, с которым мы играли во дворе дома, и большая квартира с огромным коридором и стеклянными дверьми. Еще запомнился поезд, в котором мы ехали в Москву, и станция на пути с большим белым фонтаном. А потом мы поселились в Москве у бабушки, в одной комнате, со множеством соседей, которые меня всегда обнимали и приглашали в гости посмотреть никому не известный тогда телевизор с большой лупой перед экраном.
Я вспомнил с необычной ясностью то, о чем за последние двадцать лет никогда не думал: самую страшную печать детства – как в гробу, на улице, у подъезда лежит наш сосед дядя Вася с повязкой на лбу, – и лучшее детское воспоминание: как впервые, стоя под буквой «А» у порога школы, я увидел рядом маленькую черноволосую девочку – Таню Ларину.
С Таней Лариной меня посадили за одну парту. Я тогда был слишком маленьким, чтобы понимать, что это судьба, но я влюбился в нее по-детски, с первого взгляда. В тех младших классах ни она, ни я еще не знали, что Таня Ларина – это со времен Пушкина известное имя в России, мы сидели рядом за партой и нас вызывали к доске: «Таня Ларина, отвечай», «Сережа Привалов, встань».
Наверно, с ее стороны это тоже была влюбленность, потому что уже с первого класса она приглашала меня к себе в гости.
Как все одноклассники, мы жили недалеко друг от друга, дома были рядом, но уже тогда было понятно, что это разные дома. Таня жила в «сером» доме. Он занимал целый квартал и, действительно, был серого цвета, поэтому так и назывался.
Она меня как-то спросила:
– Ты читал «Королевство кривых зеркал?»
– Нет.
Я много слышал об этой удивительной книге, но, как мои родители ни старались, найти ее не могли.
– Пойдем ко мне. Я тебе ее дам почитать.
Тогда я впервые оказался в гостях у Тани – в «сером» доме. Квартира мне показалась огромной: прихожая, три или четыре комнаты, высокие потолки, красивая мебель и никаких соседей. Как потом я узнал, «серый» дом строился для ученых и генералов, они там и жили.
Я не знаю до сих пор, а тогда этим не интересовался, кто были Танины родители. Но Танина мать встретила меня приветливо:
– Сережа, здравствуй. Проходи в Танину комнату. Хочешь чаю, пирожного? Идите, я вам не буду мешать.
Почему-то в школе на переменах дрались все – наверно, так было издавна принято: и мальчики, и девочки – только не мы с Таней. Мы с ней бегали, мы играли, но никогда не дрались. Мне сейчас кажется, что это, действительно, была детская любовь: мы очень нежно и трепетно относились друг к другу.
Во второй раз я побывал у Тани на ее день рождения. К себе в гости она пригласила весь класс. Я помню, как мы, взявшись за руки, образовали круг, а в его центре стояла Таня.
«Как на Танины именины испекли мы каравай: вот такой ширины, вот такой вышины». Мы ходили вокруг нее хороводом, поднимали и опускали руки под слова песенки, а Таня стояла посередине и улыбалась.
Она была маленькая, подвижная, смуглая, черноволосая, умная и очень красивая.
Потом мы все сели за чайный стол и угощались тортами и пирожными.
– Прочитал «Королевство кривых зеркал?»
– Да, очень понравилось, вот возьми.
И я протянул ей книгу.
– А «Три толстяка» читал?
– Нет.
– Вот, держи. Тебе понравится.
Мы оба любили читать книги, и нам обоим нравилось потом обмениваться впечатлениями от прочитанного. Хорошие книги тогда были редкостью, но у Тани, в домашнем шкафу, были все самые лучшие, и я стал часто бывать у нее в доме: я приносил то, что прочитал, и брал то, что она мне давала. Можно было, конечно, и в школе брать у нее новые книжки, но почему-то она всегда приглашала меня к себе, а мне нравилось бывать у нее дома, сидеть на диване рядом с ней в ее комнате и вместе листать книги.
Ее мать всегда была приветлива и ласкова со мной, и не мешала нам оставаться вдвоем.
В те годы каждое лето мои родители вывозили меня к морю, в Феодосию. Там, в большом дворе, где мы останавливались каждый год, собиралось на отдых множество наших родственников и родительских друзей.
Не знаю, как так получилось, но однажды летом, в каникулы, Танины родители отпустили ее одну, со мной и моими родителями, в Феодосию.
Странно, как выборочна наша память. Я почему-то совсем не помню, как мы там с ней плескались в море, как проводили время во дворе дома, где жили, но очень хорошо запомнил, как, сидя на дощатом топчане на пляже, мы играли с ней в шахматы. Мне в это лето отец подарил красивые шахматы под слоновую кость, и мы с Таней играли в них каждый день. А еще я запомнил из того детского времени ее высокий лоб и черную косу и внимательные черные глаза, и умное приветливое лицо, и тонкую ее фигуру.
Я был тогда самым маленьким в классе, и высокие или толстые девочки пугали меня, а Таня была одного роста со мной, и может быть, поэтому у меня никогда рядом с ней не возникало, как теперь я понимаю, комплекса неполноценности. Мне всегда было хорошо с ней рядом: за партой ли, у нее дома или на море.
А три года спустя, мы с родителями переехали в новую квартиру, в новый район, и я перешел в другую школу.
Может быть, Танины родители так доверяли моим, но даже после этого мы еще раз провели вместе с Таней лето в Феодосии.
А потом я окончательно окунулся в новую школу и новую жизнь, и в новых друзей, и прошло несколько лет, прежде чем мы снова встретились с Таней.
Нам было лет четырнадцать.
В те годы было принято дружить школами. Та школа, где мы сидели за партой вместе с Таней, была известна в Москве. Там до войны училась героиня-партизанка Зоя Космодемьянская. И однажды нас повезли на экскурсию в эту школу. Ребята сидели в актовом зале и слушали рассказы про Зою Космодемьянскую и смотрели ее фотографии. А мы с Таней Лариной убежали ото всех и стояли вдвоем в полутемном школьном коридоре. Был уже вечер, и в школе было пусто: ни учеников, ни учителей. Она не спрашивала, почему я ей не звонил и не приезжал, а я, словно и не прошло этих лет, стоял с ней близко, так, будто мы всегда были вместе и только вышли на перемену, и думал, какая она красивая.
Таня вытянулась, но не выше меня, и приобрела девичьи формы. Мы стояли рядом в полутемном коридоре и молчали. Не надо было никаких слов, нам было хорошо и уютно вдвоем. Я осторожно обнял ее и прижал к себе. Она податливо и доверчиво прижалась к моей груди, и наши губы стали искать друг друга. Я еще никогда в жизни не целовался с девочкой, я не нашел ее губ и поцеловал ее в шею, тонкую, лебединую шею.
И с тех пор мы не виделись. Прошло двадцать лет.
III
– Таня, ты здесь живешь?
– Нет, я живу все там же, на «Войковской». А сюда езжу к своей модистке.
Странное, забытое слово – модистка. Наверно, его употребляют в разговоре только старые люди или аристократы. Таня была аристократкой. В детстве Сережа не задумывался об этом, несмотря на ее громкое имя, а теперь, глядя на ее вырисовывающееся в свете фонаря точеное, хрупкое лицо, Привалов вдруг подумал: как она изящна и аристократична.
– Я сюда часто езжу на примерку. Хочешь, пойдем со мной. Я ненадолго.
Сережа Привалов вдруг ясно понял, что никуда он больше не хочет торопиться, никуда больше не хочет идти без нее, тем более домой, а хочет пойти с ней, за ней, куда бы она его ни повела.
Сергей сидел в соседней комнате и терпеливо ждал, когда закончится примерка.
– Вот и я. Пойдем.
Когда они вышли на улицу, Сергей сказал:
– Я тебя провожу. Давай возьмем такси.
Они сидели в машине молча. Сергей кожей ощущал притягательное тепло ее бедра и ног и краем глаза видел, как она слегка улыбается в темноте.
Привалов давно не был в том старом районе, где прошло его детство. Он узнал «серый» дом, хотя теперь он ему показался меньше, чем когда-то. Было уже совсем поздно, когда Таня открыла дверь квартиры и, прижав палец к губам, сказала:
– Тихо, дочка, наверно, уже спит. Проходи, снимай пальто.
Когда они прошли в прихожую, Таня спросила:
– Хочешь на нее взглянуть? Пойдем.
И мягко ступая, они вошли в ту самую детскую, где когда-то вдвоем сидели рядышком на диване и листали книги. Там, где когда-то давно стоял диван, в кровати спала, улыбаясь во сне, девочка лет десяти. Она была смуглая и черноволосая, и очень красивая. Она, как две капли воды, была похожа на ту девочку из первых классов, с которой Сережа сидел за одной партой, и в которую влюбился с первого взгляда.
– Это Машенька, – гордо представила ее Таня.
В квартире больше никого не было. Они сидели вдвоем в гостиной и пили вино.
– О тебе не будут волноваться? – спросила она.
– Нет, я никуда не тороплюсь.
– Если хочешь, оставайся. Завтра суббота, на работу не идти. Я постелю тебе в соседней комнате. Ну, рассказывай: как ты жил эти годы, как ты живешь? Женат? Дети?
– Женат. Сына зовут Андрюша, он чуть младше твоей Машеньки. А ты?
– А я живу одна с Машенькой. Помнишь Алешу Петренко из нашего класса? Мы с ним развелись год назад.
– А твои родители? Я очень хорошо помню твою маму.
– Отец умер давно. Мама снова вышла замуж, мы с ней редко видимся. Где ты работаешь?
– Инженером в конструкторском бюро.
Сергею не хотелось говорить о том, что должность его и работа совсем не радуют его, что жена его только называется женой, но почему-то ему казалось в то же время, что, расскажи он Тане все, как есть, она поняла бы и не осудила бы его за его бестолковую жизнь.
– А ты чем занимаешься?
– Я – референт-переводчик в посольстве Дании.
– А какой институт ты заканчивала?
– Иностранных языков. Так что все неплохо. Как твои родители?
– Заезжаю к ним раз в месяц. Постарели сильно, но держатся, на дачу ездят каждое лето.
– А в Феодосии ты давно не был? Знаешь, я очень часто вспоминаю, как мы там отдыхали с твоими родителями. Мне так там нравилось.
– Езжу туда иногда. Там здорово. Два года назад вывозил туда сына. Ему семь лет было, столько же, сколько и мне, когда меня в первый раз туда родители повезли.
А ты помнишь, как мы с тобой играли в шахматы на пляже?
– Еще бы. Ты ужасно злился, когда мне проигрывал.
– Правда? Не помню.
– А помнишь, как мы всем классом мой день рождения здесь справляли?
– Конечно. Мы водили хоровод вокруг тебя, а я не мог оторвать от тебя глаз. Ты была такая красивая.
– Я постарела?
– Что ты, Танечка, извини. По-моему, ты такая же, какой я тебя помню.
– Ладно уж, не подлизывайся.
– А ты помнишь, как мы с тобой целовались в школе?
Таня как-то напряглась в своем кресле и внимательно и серьезно посмотрела на Сережу:
– Я все помню. Ладно, на сегодня хватит воспоминаний. Спать пора. Я пойду постелю тебе.
IV
Когда на следующее утро Сергей разлепил глаза, первое, что он увидел, это было улыбающееся Танино лицо, склонившееся над ним.
– Вставай, соня, завтрак готов. Одевайся, пойдем я тебя с Машенькой познакомлю.
Они прошли на кухню. На столе были аккуратно расставлены три тарелки с дымящейся яичницей и сосисками, хлебушек, приправа, а за столом сидела опрятная, черноволосая, смуглая девочка очень похожая на свою мать.
Она встала и поздоровалась.
– Познакомься, Машенька. Это дядя Сережа, мой старый друг.
– Здравствуй, Машенька. Мы давно с твоей мамой не виделись. И я очень рад, что встретил ее и теперь смог с тобой познакомиться.
– Вы вместе с мамой в школе учились?
– Да, в младших классах. А ты в каком классе учишься?
– В четвертом.
– Давайте кушать, садитесь за стол, – сказала Таня.
Когда встали из-за стола, Сергей предложил:
– Пойдем погуляем в Тимирязевский парк, я с детства там не был.
Они гуляли по заснеженным мелким пушком аллеям парка, Машенька убегала и возвращалась, смеялась и снова убегала.
– Сережа, скажи, пожалуйста, извини за прямоту, не обижайся, ты ведь даже не позвонил жене, что не придешь сегодня домой.
– Знаешь, Таня, я не хотел вчера об этом говорить. Мы живем вместе и не разводимся только из-за сына. Мы давно уже не спим вместе, только проживаем в одной квартире. Мы не говорили с ней об этом, но думаю, у нее кто-то есть. На самом деле, мне это абсолютно безразлично.
Таня слушала серьезно и внимательно, слегка наклонив голову.
– А у тебя тоже кто-то есть?
– Нет, Таня. Знаешь, я очень рад, что встретил тебя. И еще: прости, что не звонил и не приезжал к тебе все это время. Даже не знаю, почему, не знаю. Прости.
– Я очень ждала тебя. Ладно, не будем больше об этом. Я тоже очень рада, что мы с тобой встретились.
– Знаешь, лет двенадцать тому назад, еще до моей женитьбы, я ужасно вдруг захотел тебя увидеть. Я постоянно думал о тебе, хотя мы столько лет не виделись. Не знаю даже почему, но именно тогда я очень хотел встретиться с тобой. Я искал твой телефон в своих записных книжках, спрашивал у родителей, так и не нашел. А твою квартиру, после стольких лет, я бы, конечно, тоже не вспомнил. Это правда. Прости меня.
– Ты сказал: двенадцать лет назад. Да, мне было двадцать три года. Алеша Петренко давно ухаживал за мной, а я все не решалась выйти за него замуж. Теперь я понимаю, что просто не любила его. Прошел еще год, и мы поженились. А через год родилась Машенька.
– У тебя очень хорошая дочка. Она мне очень понравилась. Она очень на тебя похожа.
Сергей вдруг поймал себя на мысли, что и Таня ему очень нравится, и прошлая влюбленность ожила и забурлила в его сердце, и перевернула его мысли.
– Таня, у тебя какие планы на эти выходные?
– Никаких. Буду дома, с Машенькой.
– Я уеду часа на два. Нет, не домой. А потом вернусь к тебе, можно?
– Хорошо, Сережа. Мы тебя ждем.
Сергей поцеловал Машеньку и поехал в центр, в билетные кассы. Ему захотелось пригласить Таню в театр, и не в какой-то, а в Большой театр.
В кассе билетов на следующий день, конечно, не было. У входа стояли перекупщики.
– Есть два билета на завтра в Большой, на «Лебединое озеро»?
– Найдем.
Сергей вытащил из бумажника последние деньги и, как величайшую драгоценность, положил туда два билета на «Лебединое озеро».
По дороге он позвонил жене и сказал, что его несколько дней не будет, а потом снова поехал к Тане.
Таня открыла ему дверь, встревожено улыбаясь, и Сергею показалось, что он прочел ее мысли: «Вернется или нет?»
– Танечка, я тебя на завтра приглашаю в Большой театр на «Лебединое озеро», – чуть ли не с порога выпалил он. – Пойдем?
– Конечно, пойдем, Сережа. Проходи. Я уже беспокоиться начала, что ты так долго. Я ждала тебя.
Сергей прошел в гостиную. Выбежала Машенька:
– Здравствуйте, дядя Сережа. А куда вы уехали?
– Я за билетами ездил. Мы завтра с твоей мамой в театр пойдем.
– А я?
– Мы поздно пойдем. Ты спать уже будешь.
– Ладно, я играть пошла.
И убежала.
Сергей с Таней сидели в гостиной, Маша играла у себя в детской.
– Таня, я позвонил домой. Сказал, что не приеду. Можно, я у тебя сегодня останусь? Я не хочу уезжать.
– Оставайся, Сережа.
Вечером Таня постелила ему постель в соседней комнате, а ночью сама пришла к нему.
Следующим вечером, крепко держа друг друга за руку, они сидели в партере Большого театра и смотрели «Лебединое озеро».
Прошел месяц. Они стали жить с Таней вместе, и Сергей Васильевич Привалов подал на развод. Слава Богу, его жена не возражала и не закатывала истерик и скандалов. Состоялся суд. Бывшая жена пролила несколько слезинок в зале, и их развели.
С этого времени Сергей окончательно поселился в «сером» доме, и они с Таней официально оформили свои супружеские обязанности по отношению друг к другу.
V
Как-то после свадьбы Таня спросила Сергея:
– Сереженька, мне кажется, у тебя не все ладно на работе, я ошибаюсь?
– Танечка, мне не хотелось тебе об этом говорить и расстраивать тебя. Там все плохо. Я знаю, что умею и могу большего. Это трясина какая-то.
– Понятно. Зря раньше мне не сказал. Мой отец работал главным конструктором одного закрытого исследовательского института. Там его помнят и уважают, а меня знают. Я позвоню.
И уже через месяц Сергей Васильевич Привалов начал работать в новой должности в престижном научном центре. Новая работа была интересной, и теперь не приходилось считать, сколько денег осталось до зарплаты.
Машенька относилась к Сергею, как к родному отцу, а он очень любил ее и все вечера посвящал ей и Танечке. Своего сына Андрюшу он забирал к себе на выходные, и, кажется, Машенька с Андрюшей подружились. Они вместе листали книги, а Сергей вспоминал свое детство и свою маленькую Танечку Ларину.
Сергей сам понимал, как он изменился. Он стал принимать решения. Он выдвинул несколько новых идей на работе, и через несколько лет его уже назначили на место заместителя главного конструктора. Таня гордилась им, а он знал, что без своей Танечки, без своей школьной, на всю жизнь, любви, он никогда бы ничего не достиг и никогда бы не стал человеком.
А потом Таня взволнованно сказала ему:
– У нас будет ребенок.
ЭПИЛОГ
Сергей Васильевич Привалов ехал в полутемном трамвае, а через проход от него, как на другом краю пропасти, сидела незнакомая, черноволосая, черноглазая женщина и улыбалась ему, когда он робко поворачивал голову в ее сторону.
«Наваждение какое-то», – суетливо подумал он.
«Надо что-то сказать, что-то сказать, – как молитву, повторял он про себя. – Что она красивая, что мне нравятся ее глаза, ее волосы, ее улыбка. Что же сказать?»
Но он уже знал, что никогда не скажет этих слов, потому что опять боится непонятно чего, потому что никогда не говорил он и не сможет сказать такие слова. Ему вдруг до спазм в горле стало обидно за себя, за то, что он никогда в жизни никого не любил по-настоящему сильно: ни жену, ни сына, ни родителей, ни даже себя. Ведь так не бывает, не может быть – это слишком жутко – никогда никого не любить и не быть любимым. И так захотелось хоть небольшого, но настоящего понимания, тепла, нежности, любви, счастья.
И тогда торопливо и воровато, оглянувшись через плечо, он снова взглянул на свою соседку и увидел, как с того края пропасти глядят на него и улыбаются ему ее глаза. Сергей почувствовал, как мускулы и кожа его лица напряглись, вобрав каждой клеточкой в себя эту улыбку. Он отчетливо понимал, что именно сейчас надо что-то сказать, встать, улыбнуться в ответ, сделать какое-то движение, хоть что-то, иначе будет поздно, и не мог. Он резко обернулся к спасительному окну, пытаясь унять сумбур в голове и сердце. Он вглядывался в темноту, а перед глазами стояли ее лицо и ее улыбка.
Чей-то чужой голос объявил остановку, и на следующей надо было выходить. Медленно, как лунатик, Сергей встал и подошел к двери. «Если она сейчас выйдет, я с ней заговорю», – сказал он себе чуть ли не вслух.
Привалов вышел из трамвая. До дома оставалось пройти совсем немного вперед. И тут он опять увидел ее, совсем рядом, такую реальную и далекую, как сказка. Она неторопливо прошла мимо и завернула за угол.
Сергей Васильевич машинально сделал несколько шагов за ней, дошел до угла и долго-долго глядел ей вслед. Потом повернулся и медленно побрел в сторону дома.
Душа бабочки
Душа, как бабочка, перелетает с одного цветка на другой…
I
Мне было десять лет, когда я увидел ее впервые. Тогда я еще не мог понять, что это она. Я даже представить себе не мог, что она пришла только ко мне и останется со мной навсегда. Я еще не понимал, что она предназначена мне, а ей предназначено любить и страдать вместе со мной, во мне самом.
Был теплый, нежный южный вечер. С моря тянуло прохладой, ненадолго прогоняющей подступающую душную ночь. Я сидел на маленькой скамеечке и наблюдал за взрослыми.
В Феодосию мы приезжали уже в третий раз, и в это лето, в том же доме, собралось много наших родственников и знакомых.
Во дворе над головой горел фонарь, и когда я смотрел на него, мне казалось, что он вот-вот оторвется и уплывет вверх, в темноту звездной ночи, туда, где висит луна. Фонарь высвечивал круг, посередине которого стоял стол, а за границей яркого света – чернота, там страшно. Там глубокий колодец, из которого, если упасть, не выберешься никогда, и дощатый туалет в конце участка, куда ночью я не ходил, потому что он напоминал мне истории о синих руках, вытягивающихся из-под земли и хватающих всех, кто осмелится к ним приблизиться.
Я сижу на скамеечке, еще не подошло время отправлять меня спать, и просто смотрю вокруг. Я поднимаю глаза и вижу усыпанное звездами небо. Я знаю созвездия, папа называл и показывал мне их: вот Орион, вот Большая и Малая Медведица, вот Полярная звезда, вон Млечный путь. Я сижу на поляне фонарного полнолуния, и мне уютно и спокойно. Мужчины собрались за столом во дворе, выпивают понемногу и играют в преферанс. Женщины разошлись по комнатам, застелили постели и ждут.
Большая, серая ночная бабочка села мне на руку и замерла. Я взмахнул рукой, она отлетела и снова припорхнула ко мне. Она будто не замечала меня. Мне стало интересно: такая приставучая, такая большая и, несмотря на бледное одеяние, такая красивая. Она будто играла со мной: то отлетит, то снова приклеится к моей руке. Десятки ее подруг кружились вокруг фонаря. Она тоже улетала туда, на свет, стучалась о стекло, а потом возвращалась ко мне. Мне понравилась эта игра, и я пошире раскрыл ладонь. Мне показалось, что она очень доверчивая, нежная и не боится меня.
Я не хотел ее убивать. Просто сжал кулак, сам не знаю почему. Она сморщилась и упала на асфальтовый двор. И умерла, а я уже на следующий день забыл о ней.
II
Мне было двадцать лет, когда я познакомился с Машей. Мы сидели с ней в маленьком кафе на Пушкинской площади и ели мороженое, а я читал ей стихи по-французски. Она не понимала ни слова, и я тут же переводил. Я учился на переводчика на третьем курсе, она – на первом курсе педагогического факультета. Я изучал французский, она – немецкий. Я смотрел на нее с вожделением, она на меня – с трепетным восторгом. Мы встречались каждый день. Была зима, хрупкие снежинки таяли на ее щеках. Я провожал ее домой и тихонько нашептывал ей на ухо: Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir – Падает снег, ты не придешь сегодня вечером… И чувствовал ее близкое дыхание, готовое вылиться в поцелуй, и понимал, что она уже тает в моих объятиях.
* * * * *
Мы стали любовниками. Я звал ее: «Душа моя, душенька», – а она откликалась: «Мой любимый, мой единственный».
Ссора налетела, как облачко. Я просто приревновал ее на одной вечеринке. Она пулей выскочила из этой чужой квартиры, я за ней. Не знаю, откуда в столь позднее время вынырнула эта машина, но она сбила ее, как рок. Я склонился над ней и обнял еще теплые, безжизненные плечи. Она, как бабочка, затрепыхала, потянулась мне навстречу и умерла.
III
Мне тридцать лет. Я влюблен. Ее зовут Ира.
* * * * *
Андрей встретил меня возле метро, обнял, поцеловал и подарил цветы. Я была счастлива, я любила его. В этот день он пригласил меня в гости к своему приятелю. Мы с ним вечно кочевали от его приятелей к моим приятельницам. У него были жена и сын, у меня – муж и дочь. И только наши друзья выручали нас, предоставляя свои квартиры для наших свиданий и любви.
В этот раз он мне сказал:
– Это мой приятель Валера. Он зубной врач. Я к нему иногда хожу лечить зубы. Обычно он меня принимает последним, и мы вместе идем куда-нибудь в кабак.
Он сейчас должен подойти. Он недалеко живет. Хочешь, я тебе его опишу, и тогда ты сама его узнаешь.
Я кивнула.
– Он здоровый мужик, интеллигентный, но немного грубый. Руки огромные – как у мясника.
Я тут же представила себе Валеру, ковыряющего своей мясницкой лапой у меня во рту, и мне стало не по себе.
* * * * *
Ира всегда появлялась неожиданно и стремительно. Она каждый раз словно вылетала из толпы навстречу моим объятиям. На этот раз она была в темном костюме с белой блузкой, который ей так шел. Юбка обтягивала точеные ножки, сочетание черного пиджака и белой блузки, расстегнутой на три пуговицы и слегка приоткрывающей грудь, подчеркивало стройность фигуры и оттеняло ее зеленые, ведьмины глаза, которые я так любил.
* * * * *
Было начало осени, и еще тепло. Для нашей встречи с Андреем я надела темный костюм, который ему очень нравился: приталенный пиджак, короткая юбка и белая блузка с длинным воротником. Он сердился, когда я опаздывала, поэтому я собиралась и одевалась задолго до выхода. Перемерила много костюмов и платьев, сначала хотела показаться ему в чем-то новом, а потом решила: надену то, что ему нравится. Ведь он такой: что-то не так, промолчит, но я же сразу почувствую – чем-то не угодила.
Я стояла, прижавшись к нему, подхватив его под руку, вглядываясь в прохожих. Прямо на нас шел огромный мужчина лет сорока, распирающий мышцами ткань рубашки, с руками, как у мясника.
– Он? – спросила я.
– Он, молодец, угадала.
Я никак не ожидала от этого бугая такой галантности. Он раскланялся, даже наклонился, как мне показалось, чтобы поцеловать мне руку, но сдержался. В руке он держал большой и, видимо, тяжелый кожаный портфель. Я еще подумала: наверное, медицинские инструменты или лекарства всегда с собой носит.
Когда мы вошли в квартиру, в прихожей нас встретила миловидная, беловолосая девушка. Все вместе мы прошли в комнату, и Валера сказал:
– Лена, Андрей, Ира.
После чего он водрузил на стол заветный портфель и раскрыл его. Вместо медикаментов, в нем оказалось семь, ровно стоящих в ряд, бутылок водки. Он их торжественно вынул и произнес:
– Скромно, по-ленински.
А потом добавил, как бы извиняясь, что так мало принес:
– Сюда входит ровно семь бутылок, больше не помещается.
Я поглядела на Валеру с уважением.
– Лена, – повысил голос Валера, – у нас гости. Иди на кухню, приготовь что-нибудь.
Лена молча и послушно пошла на кухню.
– Валера, а кто она? Я ее раньше у тебя не видел, – спросил Андрей.
– Это Лена, мы вчера с ней познакомились.
* * * * *
Я уже начинал жалеть, что познакомил Иру с Валерой. У него, помимо рук зубодера, было четыре жены, среди них – одна известная поэтесса и одна француженка. Он с ними поочередно жил, а потом разводился. Были ли у него дети и сколько, я никогда не спрашивал.
Мы сели за стол и, скромно, по-ленински, выпили водки. А потом Валера сказал:
– Лена, ты помнишь, мы собирались пойти погулять?
И только тогда мы с Ирой, наконец, остались вдвоем.
* * * * *
Два года спустя мы расстались. Она меня бросила и вышла замуж за Валеру, а еще через год они уехали жить за границу. Или это я ее бросил и отправил куда-то за границу, подальше от себя? Или убил ее из ревности? Нет, я ее не убивал. Надеюсь, она жива и счастлива где-то. Пусть она будет той бабочкой, которую я отпустил, и улетит далеко отсюда. Там ей будет спокойнее.
IV
Когда мне было сорок лет, я встретил девушку на двадцать лет моложе меня и стал с ней жить. Ее звали Марина.
Однажды летом мы поехали с ней в Феодосию, туда, где все начиналось, туда, где в первый раз умерла моя бабочка. Все возвращается на круги своя, я снова вернулся в свой фонарный круг – в тот же двор.
Марина будто прилепилась ко мне. Не знаю, почему, но в Феодосии, на юге, где приморский берег, устеленный телами отдыхающих, так и источает похоть, Марина была скромницей. Какой бы она ни была в Москве, здесь не отходила от меня ни на шаг. Мы не расставались ни на минуту, ни днем, ни ночью.
Мы поселились в маленьком домике, в котором, кроме двух узких кроватей, шкафа и тумбочки, ничего не было, но нам этого хватало. Все чаще она говорила мне:
– Андрюша, не уходи от меня сегодня ночью.
Тогда я крепче обнимал ее и нежнее целовал, а когда мы засыпали на узкой кровати, то переплетались, наконец, в единое целое и становились одним человеком.
А утром шли на пляж. Марина несла свой надувной матрас, а я сумку. Мы плыли на камни, за сто метров от берега перерезающие грядой море, а потом пили пиво и бездумно валялись на нашей подстилке часов до трех. Для Марины море было самым прекрасным в жизни. Марина – морская моя, я всегда восхищался тем, как она соответствовала своему имени.
Когда мы шли на море, Марина одевалась по здешней моде – купальник, а снизу подпоясывалась какой-то марлей. Даже не знаю, как ее назвать, мы ее здесь и купили: что-то легкое и прозрачное. Она обертывалась вокруг талии, как у африканских женщин, и ничего не прикрывала, а наоборот, показывала. Наверное, для этого женщины и носили эти покрывала. Марина бросала в набегающую волну свой матрас, забиралась на него и плыла к камням, я за ней. Потом мы оставляли матрас на берегу, и она, то, как акула, с разбега ныряла в волну, то, горячая от жаркого солнца, стояла по колено в воде, а я уже плавал вокруг нее:
– Ну, заходи же в воду.
– Не хочу. Вода мокрая и холодная.
Тогда я бросался к ней, обнимал ее влажными руками и затаскивал в море. Она визжала, отталкивала меня, а потом уже в воде сама приставала ко мне, ныряла, стягивала под водой с меня плавки, выныривала и говорила:
– Попался? Вот теперь ты никуда не денешься от своей акулы.
Или обнимала, прижимала к себе и целовала солеными губами:
– Бегемотик мой дорогой, поплыли до камней.
Мы лежали на горячем песке, повернувшись спиной к солнцу, солнце жмурило нам глаза, и, уставшие от купания, но не от моря, мы отстранялись от окружающего мира и дремали, закрыв глаза, ощущая рядом теплоту и запах родного тела.
Когда под марш «Прощание славянки» поезд тронулся в Москву, Марина прижалась к окну и смотрела на море, пока оно не скрылось совсем.
– Как мне не хочется уезжать отсюда, – сказала она.
В Москве Марина мне вдруг сказала:
– Андрюша, я хочу от тебя родить ребенка.
* * * * *
Она не родила мне ребенка. Вскоре после приезда в Москву она заболела и через год умерла.
V
Мне сказали, что я чуть не убил свою внучку, такую маленькую и беленькую, как бабочка. Это неправда. Я просто взял ее в свои объятия, а она распахнула ручки, как крылья.
Мне пятьдесят лет, и теперь я живу здесь – в сумасшедшем доме, в отдельной палате.
Я лежу один, меня никто не беспокоит, время остановилось. Я много думаю о прожитом. Как странно: теперь я вспоминаю не своих детей и внуков, а женщин, которые были у меня, которых я любил. Я думаю о них – моих бабочках – или о моей душе: это одно и то же. Может быть, я слишком сильно любил, может быть, чересчур сильно прижимал их к себе, поэтому они умерли. Мне кажется, что это я их всех убил. Мне кажется, что я причастен к их смерти, потому что любил их. Или моя любовь, как гниль, несет смерть? Почему так? Почему я всем приношу несчастье? Я всегда считал себя добрым человеком. Почему же?
В меня влюблена медсестра. Ее зовут Люба. Она приходит иногда ко мне по ночам. Но когда в ночной тишине мне в мозг иголками впиваются шепот и шорохи, и голоса моих любимых, я начинаю бояться и за себя, и за нее. Я боюсь, что однажды, в порыве страсти, сожму ее, как бабочку, и прошепчу в последний миг: «Прощай, моя душа, прощай».
Море
I
Море тихо ласкает пеной берег. Нежная волна лижет прибрежный песок и отступает назад. Теплая от ушедшего дня, черная вода набегает на кромку пляжа и отползает обратно, в темноту. Медленное и плавное шевеление ночного моря затормаживает бег мыслей и времени и успокаивает сердце. Соленый летний ветерок освежает голову и холодит кожу. От пальцев ног до самого горизонта через спокойную, пенящуюся морскую гладь прокладывает себе узкий путь серебристая луна. Доносящиеся издалека чужие голоса и звуки тонут и глохнут в ленивом прибое. Ночь, тишина и безлюдье. Свет незнакомых огней растворяется в лунном сиянии, и тихая звездная ночь огораживает их черной пеленой. Окрашенный красками ночи, шуршит и пенится пузырями под набегающей волной остывший за вечер песок. Светящаяся электрическими точками огней, длинным изгибом, мешая с ночью горы и небо, уходит вправо бухта, а влево темнота скрадывает и берег, и море. Большая глазастая луна пятаком зависла над морем и прочертила по воде границы света и тьмы. Последние ночные купальщики ушли с пляжа, и остались благодать и покой. Соленый, свежий воздух раскрывает скальпелем грудь и наливает легкие. Они вздымаются сильнее, и глубже вдыхают в себя ноздри и рот море и воздух, становясь неразрывной связью между гигантом-морем и сидящим на берегу человеком.
Ванечка сидел у подножия волн на деревянном, дощатом топчане и вглядывался в черную морскую гладь, туда, куда утекали последние дни и ночи теплого лета. Ванечка смотрел в ночь, а в голове шумели солнечные дни и мягкие вечера уходящего августа. Ванечка глядел в кромешную даль, а в мозгу его, под полоскание волн и шуршание песка, всплывали картины и сцены прошедших двух месяцев. Думы поутихли, убаюканные летней прохладой, умиротворенные ночным покоем моря, душа успокоилась, и воспоминания стали в ряд.
II
И в детстве, и в молодости все его звали Ванечкой или Ванюшей.
В детстве он был тихим и каким-то отрешенным. Не то, чтобы он не любил играть со своими товарищами и бегать вместе с ними, но иногда, посередине игры, вдруг останавливался и куда-то всматривался, непонятно куда. Ему попались хорошие сверстники: они не били и не дразнили его за эти непонятные остановки, а со временем стали относиться к нему с уважением за его непохожесть. Он не был замкнутым или молчаливым, просто иногда набегало на него облачко отстраненной задумчивости, и тогда он, будто спотыкался на ходу и смотрел вдаль, словно видел там нечто, невидимое другому глазу. Его школьные друзья уже не удивлялись этим странным приступам его настроения и не трогали его в эти мгновения, но и они, и взрослые с тех пор, может быть любя, может, бережно, стали звать его Ванечкой.
В этом маленьком приморском городе жили, как в деревне: все знали друг друга. Зимой работали в порту или на единственном на весь город заводике, летом собирали урожай с курортников, сдавая им комнаты и продавая падавшие в садах на землю абрикосы.
Ванечка окончил школу, стал работать в порту и женился на своей однокласснице. Они стали жить в доме с большим двором, оставшимся ему от деда.
Маша работала на заводе и была хорошей и любящей женой. Она знала Ванечку с детства и не удивлялась, когда он ей говорил:
– Машенька, пойдем сегодня вечером на берег, я на море хочу посмотреть.
Местные редко ходили на море. То ли они устали от него и воспринимали море только как пользу, дающую рыбу, то ли свыклись с ним, как привыкают к окружающей природе, будь то лес или горы. Но Ванечка любил брать под руку Машу и ходить с ней на пляж, когда вечерело и там становилось пусто. Они сидели на деревянном топчане, обнявшись, и молчали. Ванечка смотрел куда-то за море, и Маша понимала, что нельзя его перебивать в эти минуты. Она не понимала, что с ним тогда происходит, но любила его и молча сидела рядом. Иногда так продолжалось полчаса, иногда час, а потом Ванечка, будто проснувшись, целовал жену, прижимал ее ближе и говорил:
– Пойдем, Машенька, домой. Ты не замерзла? Что-то зябко стало.
Маша была стройной и хрупкой, многие парни заглядывались на нее, но почему-то она полюбила этого странного, добродушного увальня, своего Ванечку.
Друзья говорили ему:
– Ну, Ванечка, добрая душа, повезло тебе, такую деваху отхватил.
А ей, в шутку, говорили:
– Ты, Маша, приглядывай за ним, а то задумается и пойдет по морю, аки по суше.
Прошло несколько лет после их женитьбы, и Ванечка как-то сказал Маше:
– Машенька, не обижайся на меня, пожалуйста, я потратил наши деньги: купил холст, мольберт и краски. Хочу попробовать рисовать.
Если бы Маша была другой, наверное, он не любил бы ее и не жил бы с ней.
Она ответила:
– Ванечка, как-нибудь доживем до зарплаты. А что ты будешь рисовать?
– Море.
– Как Айвазовский?
– Хуже, конечно, но мне очень хочется написать море.
– Рисуй, Ванечка, я тебе не буду мешать.
Айвазовский жил в этом городе. Его здесь до сих пор почитали и гордились им. На набережной, выстроенной этим художником, рядом с бегущей вдоль моря железной дорогой, проложенной на его деньги, до сих пор стоит его дом – Галерея Айвазовского.
Когда Ванечка рисовал, Маша не подходила близко. Он стоял на площадке лестницы, ведущей в подвал, и по его отрешенному взгляду Маша понимала, что, вместо белой стены, он видит море, а вниз по лестнице спускается, чтобы никто не помешал и не отвлек его взора, за которым распахивается стена.
Маша занималась своим домашним хозяйством и обходила стороной спуск в подвал, чтобы не потревожить Ванечку. Иногда он ей говорил:
– Машенька, иди сюда, посмотри. Это не мое, это копия с Айвазовского. Но скоро я пойму, как надо это писать, и тогда я нарисую что-то свое. Хотя это и будет то же самое море, но это будет другое море, потому что море всегда разное, это будет мое море.
Возможно, какая-нибудь другая женщина и сказала бы: «Ты бы лучше домом занялся, подвал разобрал бы, стенку бы отштукатурил». Но не Маша. Когда Ванечка закончил свою первую, написанную красками на холсте, картину, она купила рамку и повесила картину в спальню, а потом, прижавшись к нему и целуя, шептала:
– Ванечка, милый, как я тебя люблю. Ты мой самый хороший, художник мой дорогой.
Прошло несколько лет, и Ванечка стал писать, не подражая Айвазовскому, свои картины. Иногда он говорил жене:
– Машенька, знаешь, чего мне не хватает? Мне не хватает знаний. Если бы я учился, мне было бы легче. А я постоянно натыкаюсь на эту нехватку мастерства.
– Ванечка, если хочешь, поезжай учиться в Москву, хочешь, я с тобой поеду.
– Маша, родная, кому я там нужен? Да и поздно мне поступать в художественное училище. Ладно, буду рисовать для себя и для тебя.
Эти слова и те мгновения, когда он просил ее взглянуть на новую картину, были самыми счастливыми в их жизни.
Может быть, Маша чего-то не понимала в его творениях, но главное было не в этом: она любила его и переживала за него, и поэтому, чтобы он ей из нарисованного ни показывал, восхищалась им.
Почему-то детей у них не было, хотя они жили вместе уже много лет. Они оба мечтали о ребенке, но не получалось. Потом они узнали, что детей у них не будет, и смирились с этим.
Часто в гости приходили родственники и друзья, и все вместе они усаживались вечером в летнем дворе под виноградником за накрытым столом. И когда он подглядывал, как она накрывает на стол, суетится, готовит и несет к столу дымящуюся жареную рыбу: тараньку или кефаль, под салат из помидоров и огурцов, и стреляет в него черными, сияющими глазами, Ванечка понимал, что он самый счастливый человек на земле, пусть даже если он не настоящий художник.
III
В это лето, как и всегда, они сдавали комнаты приезжим. Приехал москвич, снял комнату и остался у них жить на две недели. Он был старше Маши и Ванечки лет на десять, и звали его Петр Петрович. Он представился художником, приехавшим на море и этюды. Имя Петра Петровича Волобуева было Ванечке известно по книгам и иллюстрациям.
Он поселился в отдельном домике во дворе, утром ходил на пляж и, просыпаясь от послеобеденного отдыха, брал мольберт и шел на берег.
Маша готовила завтраки и ужины для Петра Петровича, обедал он обычно в городе, а ужинать любил во дворе, и знаменитый художник снисходительно принимал, как должное, эти бесплатные знаки внимания.
Ванечка взял на работе несколько дней за свой счет и бегал повсюду за Волобуевым, радостный, как собачонка. А ночью в постели он рассказывал Маше:
– Представляешь, Машенька, сегодня Петр Петрович разрешил мне дорисовать на его эскизе небольшой кусочек моря.
Ванечка, как хвостик, ходил за ним на пляж и носил за ним мольберт и сумку.
Поначалу Волобуеву нравились Ванечкина восторженность в глазах и восхищение ученика, с которым тот следил за крупными мазками мэтра на холсте. Потом Ванечкино назойливое присутствие и провинциальная радость от общения со столичной знаменитостью ему надоели. Картина не получалась, Петр Петрович сам понимал, что не хватает в ней души или таланта, и про себя стал обвинять в этом Ванечку: мешает, смотрит, не отходит ни на шаг, не дает сосредоточиться. Петр Петрович был интеллигентным человеком и всегда гордился своей изысканностью в манерах и одежде, и не мог, в силу своего воспитания и образа жизни, грубо оттолкнуть Ванечку от себя. Но в глубине души уже поднималась и закипала злобненькая волна отвращения к этому провинциалу.
Работа не шла. Когда Петр Петрович Волобуев приехал сюда, впервые – в город, где творил Айвазовский, его не оставляли счастливые надежды, что он напишет серию картин о море, и представит их на очередную выставку, и они будут иметь успех. Ничего не получалось, как мастер, Петр Петрович это хорошо понимал. Между ним и лежащей у его ног водой будто вырос невидимый барьер, и теперь Волобуев винил в этом робкого, доверчивого, очарованного Ванечку. И даже когда закончились Ванечкины отгульные дни, и он снова вышел на работу и избавил Волобуева от своего присутствия, прилипшего, как тень, ничего не изменилось: картина не удавалась, море ускользало от восприятия, краски ложились не те и не так. Глухая озлобленность на себя, на море, на неудавшуюся картину и, больше всего, на Ванечку наполнила до краев чашу его сердца, и тогда Петр Петрович забросил свой мольберт и краски в угол и стал ходить на море, как все: купаться и загорать.
Однажды в субботу утром, после поданного Машей завтрака, уже собираясь на пляж, Петр Петрович увидел Ванечку внизу, на площадке лестницы, ведущей в подвал, с кистью в руке. Мстительная нотка за неудавшуюся работу звякнула внутри. Уже сладко предвкушая, как сейчас он разнесет в пух и прах мазню этого местного подмастерья, он спустился на три ступеньки вниз и заглянул Ванечке через плечо. Он уже открыл рот, чтобы выплеснуть в Ванечку заранее приготовленную, ядовитую фразу, но вдруг замер, не отводя глаз от почти законченной картины. То, что он увидел на холсте, поразило и ранило его в самое сердце. Там было изображено то, что он сам хотел написать когда-то, но даже здесь, на родине Айвазовского, не пытался начать, боялся подступиться к такому полотну. Было одно лишь море, огромное и спокойное, как зазеркалье, и первый, робкий луч выплывающего из-за горизонта раскаленного, краснеющего солнца, и белый парус вдалеке, плывущий навстречу рассвету. Больше ничего: ни берега, ни пляжа, ни гор, ни людей, только раскинувшееся на всю картину море, парус и восходящее солнце. Всё другое было бы здесь лишним, неуместным и ненужным. Морская гладь пульсировала, как лишенное покрова кожи сердце, и оживала на картине, и было в ней столько достоинства, красоты, благородства, спокойствия и внутренней силы, что Петр Петрович невольно подумал про себя: «Я бы так никогда не смог написать». Как на проявляющейся на глазах фотографии, светлело небо, но солнце еще не встало, оно только посылало вдаль, в глаза, свой первый луч, бороздя яичным желтком легкую зыбь, пронзая, как стрела, от горизонта до самой кромки, море. А навстречу первому солнечному лучу плыл одинокий белый парус.
Волобуев смотрел на картину молча, и как мастер, как художник, как профессионал, понимал: то, что написано на этом холсте, то, что он один сейчас видит и понимает, – это гениально. Даже не талантливо, а гениально. «Господи, это же новый Айвазовский, но другой, совершенно другой», – подумал он. «Как это возможно, – размышлял он про себя, не отрывая глаз от картины, – не учась ничему и нигде, написать такое. Как ему удалось, этому деревенскому самородку и слабоумку, так смешать краски, так сродниться с этим морем и передать и его, и свою душу в этой картине? Не понимаю, как он это увидел и выразил, не понимаю. Это невозможно и это гениально. А ведь ни он даже, ни его жена, тем более, не ведают, что он написал, как он написал. Только я могу понять, что за творение он создал, он – этот неуч, ничтожество, провинциал. Не я, а он смог выразить на полотне вот это: море, парус, рассвет. Как просто, но у меня бы не получилось, а он смог, не зная, что творит».
Ванечка глядел на Петра Петровича заворожено, вопросительно, не отводя глаз, затаив дыхание, как ждут приговора: жизнь или смерть.
Волобуев очнулся от своих мыслей и перевел взгляд на замершего в ожидании Ванечку:
– Что я могу сказать, молодой человек? Неплохо, даже очень неплохо. Хотя до настоящего художника вам еще очень далеко. Посмотрите на этот мазок, он явно здесь не к месту. И краски не очень естественны. Хорошо, но чего-то не хватает. Людей, что ли?
– Петр Петрович, но я не хотел рисовать людей, я хотел нарисовать море. Я так и назову эту картину – «Море».
– Ничего, ничего, не обижайтесь. Хотите, я возьму эту картину с собой в Москву и покажу ее своим друзьям – художникам?
– Петр Петрович, простите, не могу, я обещал подарить эту картину Маше на день рождения.
– Ну, смотрите, смотрите, настаивать не буду. Если передумаете, скажите.
– Петр Петрович, а давайте, я покажу вам другие мои картины.
– Хорошо, потом как-нибудь.
Петр Петрович круто развернулся, поднялся по ступенькам и пошел на пляж.
IV
Петр Петрович Волобуев не был коренным москвичом. Он вырос в маленьком провинциальном Плесе на Волге. Когда-то в этом городе бывал Левитан, сохранился дом, в котором он останавливался, и река, и церкви, которые легли на его полотна. Сюда приезжали известные художники, здесь бывал Шаляпин. Как ни странно, город не тронула блочная, безликая застройка, он сохранил свои одноэтажные домики и храмы на высоком берегу, свое лицо и душу с левитановских времен. В городе жило четыре тысячи человек, и, где и кем бы они ни работали, половина из них были художники. По выходным они располагались со своими мольбертами на соборной горке или на набережной и писали свои картины, пытаясь, каждый в меру своего таланта, перенести на холст и сохранить на нем эту красоту.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=71022151) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.