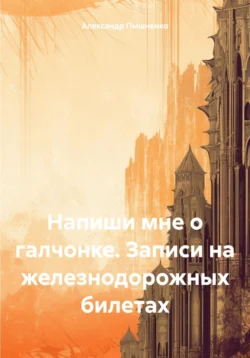Читать онлайн книгу «Напиши мне о галчонке. Записи на железнодорожных билетах» автора Александр Пышненко
Напиши мне о галчонке. Записи на железнодорожных билетах
Александр Пышненко
Собрание небольших рассказов написанных автором в разные годы, далее срез всей его жизни. Во время многих путешествий по странам и континентам. Это еще и большой, временной, отрезок, – в который вместилась настоящая смена эпох. Эта книга – взгляд автора на многие процессы, происходившие в СССР, и странах, образовавшихся после его распада. Автор надеется, что она понравится его читателям.
Александр Пышненко
Напиши мне о галчонке. Записи на железнодорожных билетах
I
Напиши мне о галчонке
– Не обижайся на меня, пожалуйста. Я заметила, что ты обидчивый человек. Не обижайся. Я, хорошая девочка. Не хочу, чтоб мы потеряли друг друга. Это так просто бывает. – Она смотрела на него одним из тех длинных, любящих взглядов, которые много значат в жизни мужчин и женщин познавших друг друга, когда они много времени проводят вместе, и между ними налажены прочные отношения, с глубинными взаимопроникновениями, – то есть: живут общими делами, как и подобает молодым людям, у которых налажена сексуальная жизнь, когда уже появились совместные мечты о совместном будущем в пределах некоего романтического смысла.
Здесь, на Подкаменной Тунгуске, их сближали совместные маршруты. Они изучали долеритовые выходы по всей реке, на предмет залежей полезных ископаемых. Сливной магнетитовой руды. Железняка. Методов их поиски и разведки. Изучали, в основном, магнетизм выходивших на поверхность пород. Направление магнитных полей. Их увлекала совместная работа; совместное проведение времени. Которого у них было много. И, еще: целое лето впереди.
– Ты никогда не обидишься на меня? – Она спросила снова про обиду, и внимательно посмотрела в засасывающую магнетическую серо-желто-буро-синюю бездну его глаз, словно внедряя в нее чарующие флюиды своими зелеными глазами. В этом затягующем у себя фосфорическом космосе глаз; ей хотелось уяснить что-то главное, что определит глубинную его сущность, от которой веет каким-то неземным холодом, что приманивает так же, если б смотреть на звездное небо с земли; с этим взглядом, у нее появляется шанс окунуться в глубину его сущности одним лишь взглядом, чтоб попытаться постичь его глубину, как доступно это всякой женщине, – в этом бесконечном внутреннем, океаническом пространстве, открывалась обволакивающая, очаровывающая бездна, в которой можно растворится навсегда своей судьбой; и слушать бесконечную, внеземную мелодию, которая бы подтверждала привязанность к ней; ибо слова любви, уже были высказанные ими не в один раз, и будут выглядеть в этом пространстве затасканно-механическими звуками, сильно отдающими фальшью; потому, что они растеряли свои чарующие флюиды; эти слова уже были исчерпаны ими при иных обстоятельствах ибо касались иных судеб, и повторять многие ошибки, они были не намерены, не имели права по отношению друг к другу.
Им обоим, было по 25 лет, они оба взрослые, и еще совсем юные, знающие, чего они хотят и ищут в этой жизни, как и в своей, интересной работе. Они знали, что их нынешнее призвание – искать полезную руду. В прошлом у них остались те, кому они выговаривали все механические слова о своей любви, и разочаровались в этом. Они об том забывали, находясь вместе.
Здесь, в тайге, – «в глубине сибирских руд», – среди чарующей природы, получив полную свободу, они обрели новую возможность прочувствовать всю полноту человеческих отношений, испытав друг на друге все свои мечты о любовных приключениях. Они жили, как первобытные люди; в то же время, имея все, что уже наработало человечество (пусть и в специфическом, советском варианте его развития). За еду им не надо было беспокоиться: в мешках лежали, в необходимом количестве, банки тушенки и сгущенки. В реке водилось уйма рыб; он мог их таскать к костру килограммами. В виде украшения стола, можно было даже испечь тот же торт «Наполеон» – с блинов и сгущенки, украшенных ягодами кислиц. К их нарядам, у медведей не было никаких претензий – одевались в ветровки, с ромбом «Мингео», на рукаве; в болотные сапоги. Другая обувь, просто не справлялась бы с болотиной. Лодки, моторы и услуги опытного охотника-проводника, нанятого экспедицией, им хватало для глубокого проникновения в таёжную глубь.
Они были красивы; под стать своим романтическим отношениям. Близость у них произошла сразу же, как только они оказались наедине, – в маршруте, – длинной в один день. Вышло как бы само по себе, чтоб ничто уже не мешало их дальнейшей, совместной, работе.
На первый выходной, они попросили Анисима, отвезти их поближе к устью речки Майгунгда, чтоб порыбачить. Он перевез их на противоположный берег, сославшись на некоторые дела. Остальной путь – в километр – они прошли по берегу.
Усевшись на камни возле бурной речушки; болтали вроде не о чем. Слова, словно кирпичики, складывались в основу их дальнейших взаимоотношений.
– С какой стати, я должен обижаться. Да и слово, это, с лексикона бичей, я его не приемлю. Оно имеет, в их среде, негативную коннотацию. – Сказал он.
– Ты – обиделся? Я знаю, что ты обиделся. – Сказала она.
– Ты играешься с этим словом? – Спросил он.
– Олежа, мы с тобой должны быть, как одно целое. Понимаешь? Я хочу, чтоб это было так. И никак, по-другому. Я ищу признаки гармонии. – Сказала, она.
– С этим не поспоришь, Аня. Мы с тобою живем вместе, как одно целое. Отбрось ложный стыд, и спрашивай прямо, что ты хочешь от меня? – Спросил он.
– Я читала твой дневник, Олежа. – Сказала она, проникая в его взгляд, словно пытаясь предугадать реакцию.
Он умолк.
– Когда ты уходишь на рыбалку. Я всегда читаю твой дневник. Мне интересно. Ты хорошо пишешь. Тебе не хватает только диплома. Я знаю, о чем говорю. Как женщина. Не спорь со мной. Ты должен поступить в институт. Тебе нужны лишь «корочки», чтоб воспринимали каков ты есть на самом деле. – Убежденно, сказала Аня.
– А без этого – никак? – Олег улыбнулся.
– Никак. – Словно передразнив его, сказала Аня.
– Это же смешно, когда человека принимают только за «корочки». – Сказал Олег.
– Без бумажки ты букашка, а с бумажкой – человек! – Сказала, Аня.
– И так: всегда! – Олег засмеялся.
– И никак по-иному у нас. – Сказала Аня.
– Ты – хорошая! Лучше всех! – Повысив голос, сказал Олег, словно пытался докричаться до медведей.
– Ты всегда начинаешь насмехаться над очень серьезными вещами. С такими вещами у нас не шутят. – Серьезно, сказала Аня.
– Я знаю. – Сказал Олег, уже примирительным тоном.
– Вот и хорошо, что ты это знаешь. – Сказала Аня.
– В нашей стране, для таких как я, места все заняты. Остались только в тайге. Чтоб не плакать, я научился смеяться. Иначе жизнь может превратиться, во что-то, весьма, ужасное. Не хочется превращать ее в трагедию. Поэтому я отправился в тайгу. – Сделав грустную мину на красивом лице, сказал Олег.
– Превращая ее в комедию, так что ли? – Спросила она.
– Скорее – в хохму. – Ответил он.
– Тогда: не лишай меня удовольствия научить тебя уму разуму. Я стану твоим педагогом – и доведу до ума. Это станет моей звездной мечтой. Я нашла человека, с которого может получится то, о чем я всегда мечтала. Сильного, упорного и неотесанного. Чтоб сделать из него того, кого хочет видеть женщина в своем мужчине. Ты, прекрасная заготовка, но своей шероховатостями в характере, ты держишь меня на расстоянии. Идет какое-то сопротивление? Смех, насмешки над собой, – это такая защита? – Спрашивала она.
– Наоборот, это: помощь тебе. Чтоб тебе не так было скучно в тайге обрабатывать целлюлозу. Когда мы остаемся одни. – Отвечал Олег.
– Можно посмеяться? – Спросила Аня, и улыбнулась.
– Сколько угодно. У меня еще есть. – Сказал Олег.
Насыщенные смыслом разговоры, происходили довольно часто между ними. Сейчас, от леса, их отделяло метров 30 пространства, затапливаемого во время паводков. Впереди несла свои воды широкая, неспокойная шивера; посредине реки, словно частокол – торчали камни, будто зубы дракона. Они смотрели на шиверу; на тайгу. На время замолчали, чтоб в повисшую паузу ворвались бурлящие звуки стремительной Майгунгды. Им было так хорошо находиться вдвоем, среди подглядывающих за ними из-за камней: таёжных орхидей, козлятников, иван-чая и кровохлебок. Это был, чуть ли не единственный выходной, за последний месяц непрестанной работы и они не спешили потратить его на рыбалку. Здесь, они ощущали себя на свободе. Вдалеке от геологического лагеря. Могли наслаждаться общением.
– Я обязательно сделаю, как ты хочешь. Я поступлю в этот институт, как ты хочешь. Ради этих «корочек», я стану жить, – хотя ума не прибавится, знаю точно. – Сказал Олег, прервав затянувшуюся паузу, прежде чем заглянуть Ане глаза.
– Я очень рада за такие мысли. – Сказала она.
– Вот доберемся до Красноярска. Останется лишь привести в порядок то, что у меня есть. Перепечатать на машинке. Я и сам иногда думал так поступать. Только вот работа не позволяет мне это сделать. Времени нет. Надо зарабатывать деньги. Да и вкладыш к диплому, мне почему-то не выдали, очевидно, кто-то, попытался мне навредить. Не впопыхах же забыли вложить. – Сказал он.
– Это плохо. Если кто-то заинтересован в этом. – Сказала она.
– Ты ничего не делал против власти? – Спросила она, после небольшой паузы. В ее взгляде, промелькнул страх.
– Я не воюю с планетами, государствами и их властями. – Ответил он.
– А то, страшновато как-то сделалось. – Сказала она.
– Значит, понравились мои рассказы? – Спросил он.
– У нас на Бахте был галчонок. Мы его выходили. Он остался без своей мамы и папы. Сирота, одним словом. Вначале, был такой смирненький. Мы его начали учить жизни. Получив образование у нас, к концу сезона – он обнаглел, страшно. Представляешь? По утрам начал будить нас, чтоб накормили его. Он садился попкой на конек палатки, и спускался вниз. Вещи металлические тырил. Мы нашли его заначку. Чего там только не было? От заколок, до металлических рублей! Напиши о галчонке, – а, потом, когда ты уйдешь на рыбалку за своими хариусами, я буду читать. Пиши это, словно для меня. – Попросила она.
– Я напишу тебе о галчонке, во время дождя, и уйду на рыбалку. Читая, ты подумаешь обо мне, как я там ловлю хариусов. – Сказал он.
– Ты любишь музыку?
– Органную.
– Когда вернемся в Красноярск – я отведу тебя в Органный зал. Ты любишь Баха? – Снова, спросила она.
– Я очень люблю Баха. – Отвечал он: – Это входит в мое самовоспитание, как обязательный пункт культурного совершенствования. Еще, я даже заставлял себя смотреть, вживую, балет. На «Лебединое озеро» ходил, хотел посмотреть на: «Танец маленьких лебедей». Так же это красиво, как по телевизору? Потом, еще несколько раз выдержал. Но уже с меньшим энтузиазмом.
– Я займусь тобою. В Красноярске мы продолжим твое совершенствование. – Сказала она.
– Всегда к твоим услугам. – Сказал он.
Они сидели обнявшись, забыв обо всем на свете. Мимо них под той стороной проплывала самоходная баржа. Из рубки неслась на всю шиверу: «Синьорита я влюблен…».
Анисим подошел неслышно.
– Андреевна зовет. – Сказал Анисим, застыв за их спинами. Они обернулись. Анисим улыбнулся, переминаясь с ноги на ногу. Он был большой и сложный, пятидесяти пяти летний мужик; с большим, рыхлым носом, на котором чернели точки угрей.
…Осенью они вернулись в Красноярск. Временами они встречались. Ходили в рестораны. Органный зал оказался закрыт на ремонт. Аня настаивала на его учебе. Он сделал запрос; но, так и не дождавшись сносного ответа, неожиданно для самого себя, укатил с первой же попавшейся экспедицией в Туву. Такое с ним случалось часто. Очередное, авантюрное решение, которое связано с накоплением денежных знаков.
…И впечатлений: от жизни бок о бок с бичами, что и превращалось для него в замечательную литературную практику, в придачу к обычному вояжу (настоящая учеба). Они перебрасывались письмами; еще не понимая, что это есть – последние штрихи в их отношениях.
27/01/2021
Канава
(Отрывок с романа “Романтик”)
1. Этот скучный город – Новосибирск
Храмова приняли на работу в Центральную партию – базирующуюся при управлении Березовской экспедиции, – в том самом сером и массивном здании, вальяжно расположившемся в самом центре Новосибирска, построенном еще в те далекие времена, когда этот город, олицетворял собою, всю мощь и лоск царской России на необъятных просторах Сибири. В те давние времена, город носил гордое и имперское название – Новониколаевск.
Храмову предоставили койко-место в обычной двухкомнатной квартире, типичной пятиэтажной и кирпичной «хрущевки», что возвышается на улице Нижегородской, на районе «Восход», что в близости от Коммунального моста, соединяющего оба берега многоводной Оби.
Храмова, со времени поселения, окружала скука и угрюмость, впавшего в спячку, зимнего города. Отправляясь, всякий раз на работу в центр города, Храмов отмечал про себя лишь виднеющийся отовсюду белый купол Оперного театра, словно бы парящий над серостью невзрачных городских кварталов. Торопливо пробегая по аллеям Центрального парка, мимо резво прыгающих по дорожкам, практически ручных белок, Храмов всякий раз встречал бронзового Ильича, возглавляющего пять монстроподобных изваяний олицетворяющих собою какую-то связь эпох (получившие в горожан, меткое название «труппа товарищей»).
…Ближе к весне, к началу нового сезона, Храмова начали направлять на загородную базу экспедиции, – где, под руководством опытного геофизика Бориса Б., – из отряда Артюхова, – он стал подготавливать старенький спектрометр к предстоящим полевым работам. Создавал формулы расчетов процентного содержания радиоактивных элементов в породах, для полученного на складе спектрометра.
2. Петров и Пальчиков
Весна застала Храмова (числящегося в отряде Федорова) «в аренде», в группе Татаринова, которая отправлялась работать на Алтай. Алтай – это тюрко-монгольское название. Оно происходит от слова – „золото". Разработки золота здесь, известно, самые древние в Центральной Азии.
…7 мая, геологи разбили свой лагерь, на речушке Урап…
А, уже через пару недель, во главе двух бичей (так принято было за глаза называть рабочих в этой среде), – Петрова и Пальчикова, – Храмова отправили отрабатывать радиоактивную аномалию в районе деревни Пыхтарь.
Передислокацию проводили на военном «Газ-66», на расстояние – около сотни километров, вглубь территории равнинной части Алтая. До районного городка Залесово, они добрались еще по такой-сякой плохо заасфальтированной дороге, а дальше, – в царстве молодых осинников, – двигались, исключительно «по направлениям» (грязное, колдобистое месиво, трудно было определить, даже, как «ухабистый проселок»). На пути их следования часто возникали какие-то совершенно заброшенные деревни-призраки, заросшие дворы и заколоченные ставни в избах.
За всю дорогу, Храмов не проронил не единого слова. Попутчики – тоже сидели, задумавшись, словно воды в рот набрав.
Татаринов – опытный специалист в этом деле, – из всей пестрой компании бичей, явившейся с ним на Алтай, отобрал в многодневный маршрут, именно этих двоих. Они должны были заполнить графу в его годовом отчете «выемка грунта». Иными словами, средь специалистов, этот процесс, имел название: «Сделать план по канавам». Две недели, Татаринов внимательно наблюдал за своим пополнением; заставлял рабочих бурить тупым буром дырки в земле. Эта, «боевая» связка, безропотно прошла все этапы изнурительных испытаний.
Мрачноватый Петров, оказался на редкость степенным и рассудительным мужиком, на которого во всем можно было положиться. Петров обладал, – говоря сухим языком официальных характеристик, – определенной социальной устойчивостью (имел в Новосибирске семью). В поведение Петрова были заложены сугубо обывательские инстинкты, которые всячески укоренялись и укреплялись. Советская власть искала в таких людях себе, надежную социальную опору. Упор делался на семейный уклад и покупку дорогих вещей.
В его напарника не было весомой «социальной устойчивости». У только что отбывшего тюремный срок, за грехи непоседливой молодости, Пальчикова, – была справка об освобождении из мест заключения, большая стриженая голова на плечах, да слетающая с губ, иногда, лагерная бравада.
Для молодого Храмова, – записывающего в ежедневник, – оба кадра, были людьми с «обывательского измерения». Они были далеки от выдуманного мира Храмова, населенного выдающимися личностями, среди которых тому мечталось занять свое законное место. Возвышенное восприятие окружающего мира, для молодого романтика, – это тот социальный грунт, на котором развиваются максималисты. Многое в характере этого парня выглядело еще угловатым и несовершенным. Ученые обозначили это термином: инфантилизм. Покудова в человеке закладывался прочный фундамент, – это, вполне, допустимая вещь. Субстанция должна состоять из эластичных материалов в этот период, чтобы могла вместить в себя как можно больше опыта (в закостеневшее пространство – меньше влезает). Характеру Храмова, в определенной мере, была присуща большая впечатлительность и непредсказуемость, в лучших смысловых гранях присущих его духовности, позволяющих непосредственно наблюдать и провоцировать других вокруг себя на граничные поступки. В нем еще присутствовала та птенцовая неоперённость, выраженная некоторой мнительностью, что всегда мешало ему воспринимать окружение, таким, каким оно есть на самом деле. Он, постоянно, вынужден был преодолевать собственную робость. Все эти составляющие его бесспорно сильной в будущем личности, в совокупности, ограничивали силу этого человека; больше чем надо заставляли его, казалось бы, без серьезного повода, задумываться, формируя мысленный аппарат. Образованностью, в эту пору развития, «руководит» впечатлительность. К этому надо добавить недюжинную волю, природный ум и физическую силу, которые помогли выживать этому сильному характеру, еще не полностью закаленному в житейских бурях и невзгодах; определить свои духовные принципы.
Сколько же надо будет преодолеть преград, чтоб закостенел внутренний стержень, на котором должна держаться духовность индивидуума Постепенно, слабые звенья, заменяться прочными. Острые углы в характере, отшлифуются; засверкают яркими талантами, когда появится необходимый опыт. Память заимеет образцы для подражания, сформирует идеал – программу жизненного успеха.
Храмов назначил своей жизни большую цену, и никому не позволял фривольно поступать с ним. Он, словно бы, хранил эту свою восприимчивую для глубоких познаний аморфность в своеобразном жестком панцире, который невозможно было пробить извне, но которая постепенно твердела в нем.
…Рабочие, впрочем, тоже замечали, что Храмов – «не от мира сего»…
Храмов, потом, отмечал в своем дневнике, что лицо у Петрова необычайно грубое, словно бы вырубленное топором, на котором полностью отсутствуют плавные линии. Туловище – кряжистое; крепкое. Тогда, как Пальчиков, был словно сплетен из разных плавных линий. Здесь природа явно старалось, и, по-своему, видно, не скупилась даже на некоторое изящество.
Являясь в геологию, представители этой популяции рода человеческого, как правило, имели при себе только справку с мест не столь отдаленных от города Магадана. (Известны многие случаи, когда в отделы кадров геологических предприятий являлись кадры вообще без оной). Появление подобных типажей, – искателей всевозможных приключений, – авантюристов, – в любом геологическом отряде – было вполне заурядное явление (часто нигде не зафиксированное на бумаге), где они, должны были сделать определенную работу, и исчезнуть из поля зрения навсегда. Они были подобны – перелетным птицам.
Многие бичи находили в этом основу своего существования. Стоило кому-то из них заявить о себе, как о добросовестном работнике, как тут же, за ним, начинали охоту начальники отрядов.
Опытный канавщик достаточно высоко ценился в той среде. С его мнением, считалось даже начальство. Ведь, набирая к себе в отряд новых бичей, для начальника всегда существовал определенный риск.
В полевых условиях, для этого контингента, появляется новая возможность переступать существующий уголовный закон, чтоб оказаться снова в своей тарелке, за суровой тюремной решеткой, где их всегда ожидает привычный распорядок дня, баня по субботам и работа на лесоповале, в тесной компании с лагерной охраной.
Похоже, что для избавления от потенциальных преступников в городах, пенитенциарная система страны, закрепила за геологией, статус отстойника. В любой геологической конторе такие типы, носящие вирус неприкрытой угрозы для состояния общественной морали, немедленно получали кров над головой, деньги на выпивку и кусок хлеба.
Вернувшийся из мест не столь отдаленных от Магадана, человек, уже в статусе бича, мог рассчитывать на койко-место где-нибудь на загородной базе геологов, устроиться работать кочегаром, или, на худой конец, дворником.
Лучшие из худших особей человеческой популяции, связывали с геологией, навсегда, свои исковерканные судьбы. Судимости, в геологии, не имели особого значения. Люди, попиравшие в свое время законы, развивались и резвились под ее эгидой, внося посильную лепту в общий результат, вплоть до того, что становились достаточно умелыми операторами, которым доверяли работу со сложной геофизической аппаратурой.
Глядя на все эти противоречия, заложенные самой матушкой-природой в его невольных попутчиках – Храмов, мысленно, умилялся своей наблюдательностью. «Это ж надо было, так судьбе перетасовать замусоленную колоду человеческих судеб, – подумал он, – чтоб из бесконечного количества вариантов, собрать, внешне такую не похожую друг на друга компанию. Скорее, все же, это заслуга, того же, Татаринова… ».
В момент приезда в деревеньку, Храмов сносно ориентировался в том, с чем ему предстоит столкнуться в самые ближайшие дни. Оказавшись в одной упряжке, люди, привычно, вынуждены будут тянуть общую лямку.
3. Татаринов
Появившуюся в этих местах экспедицию, встречала дюжина почерневших от времени изб. Меланхолически взирая на окружающий мир своими высокими окнами, они в чем-то напоминали обреченно бредущих вдоль склона пилигримов «бог весть, с какой далекой стороны».
В целом, эти покрытые деревянными плашками избы, олицетворяли собою, так люб любому поэту, литературный ХIХ век. Дорога, соскользнув из склона, отправляла путников на каменистый берег Татарки, над которой был переброшен живописный мостик, сложенный из неотесанных, березовых бревен.
Приказав Храмову налаживать спектрометр, Татаринов скрылся в крайней избе. Рабочие, в это время, принялись выбрасывать из кузова свои причиндалы.
Вернувшись из переговоров, Татаринов сделал несколько коротких распоряжений, после чего, взяв настроенный радиометр, полез в яму. Найдя там пик аномалии, он велел Храмову сделать беглый спектральный анализ радиоактивности.
Теперь, очередь пришла к Храмову, показывать свое мастерство. Он поставил гильзу своего прибора на то место, которое выбрал ему начальник, следя за набором импульсов в каждом из трех рабочих каналов. Надо было вычислить природу аномалии урановая она или того же радиоактивного изотопа – тория-90.
Пока «застарелый» приборчик СП-3М набирал необходимые импульсы, Храмов успел скользящим взглядом окинуть всю живописную окрестность. С вершины холма, околица, возлежала, как на ладони. Внизу, под горой – змеилась небольшая быстрая и каменистая речушка, берега которой утопали в зарослях черемухи, цвет которых густой белой пеной стекал к ее темнеющим омутам. За белыми сугробами, буйно цветущих черемух, виднелись, раскиданные по гриве, нарядные, в весеннем убранстве, березы. Среди высокого изумрудного, травянистого покрова, рдели огненными оранжевыми углями, жарки, званые в здешних местах – огоньками.
В многоголосую симфонию всевозможных звуков, доносящуюся оттуда, гармонично вплетался шум ветра, журчание и плеск воды в каменистой речке и многое чего иное, что составляет необходимый звуковой фон. Голоса птиц, распадающиеся на отдельные фиоритуры, в целом, составляли величественную ораторию. Не одна птичка не мешала другой в этом спетом хоре. И, только громкие голоса кукушек, кололи всю эту музыку на равные промежутки времени.
…Начальник велел рабочим внести свои вещи в сенцы крайней избы…
Пребывание Татаринова в грязной яме, никаким образом не отразилось на его фирменном убранстве. Он был, по натуре, аккуратистом. Храмова всегда поражала эта особенность Татаринова при любых обстоятельствах оставаться абсолютным чистюлей. Он никогда, визуально, не видел на своем начальнике никаких признаков грязи. Казалось, что если даже на землю вывернется вся хлябь небесная, то на одеждах инженера-геолога, эта каверза божья, никаким образом не обозначится; он просквозит между дождевыми каплями. Если вспоминать все эти недавно прожитые в палатках на Урапе дни, когда им приходилось по сто раз в день соприкасаться со всеми существующими в природе фракциями грязи, Храмов не смог выделить не единого момента, чтоб это обстоятельство хоть коим образом обозначилось на коричневом плаще своего шефа. Всегда подтянутый и стройный; с неизменною офицерскою сумкою в руках, Татаринов, оставлял впечатление твердого и решительного человека. Целеустремленное, волевое лицо геолога всегда выражало олимпийское спокойствие человека хорошо знающего свое дело. Этот тип лица давал Храмову повод сравнить геолога с решительностью комиссара, времен гражданской войны, у которого не возникало никаких классовых шатаний.
– Сделал замер? – спросил Татаринов, нависая над краем ямы.
– Надо обсчитать, – ответил Храмов, порываясь к своей сумке. Он намеревался достать таблицы с формулами и коэффициентами для перевода отсчетов прибора в процентное содержание радиоактивных изотопов.
– Можешь обойтись без этих вычислений? – спросил Татаринов, и, как бы рассчитывая на юношеский максимализм, словно оговорившись, добавил – Настоящий геофизик должен быстро в уме это прикидывать.
– Мне… кажется, что это урановая аномалия, – справляясь со своим волнением, сказал Храмов.
Татаринов кликнул рабочих:
– Мужики! Подходим сюда! Прихватите с собой лопаты! – И стал, поспешно, разматывать рулетку.
Скоро, сорокаметровая канава, была полностью размечена. Ее будущие края, предстали утыканными сухими ветками. После обязательной процедуры, растянувшейся на битый час, оба рабочие, – поплевав на ладони, – принялись снимать дерн. Татаринов, в то время, достал из сумки папушу денег, и, отделив от нее четыре синие пятирублевки, – сунул их Храмову.
– Вот, тебе четыре пятерки, – сказал он. – В конце работы, выдашь хозяевам, по одной за каждого. На пятерку – купишь, у Анны Васильевны хлеба, картошки и банку молока… для пропитания. Посматривай за мужиками. С тебя – особый спрос, как из специалиста! – Сделал ударение на последнем слове. Потом, выдержав небольшую паузу, невозмутимо добавил: – Остаешься, здесь, за старшего. Смотри, чтоб бичи, не шибко обжирались самогоном. Впрочем, Петров, без понуканий, будет вкалывать. Ему позарез нужны деньги. – Как бы размышляя в голос, продолжал начальник: – А, что касается Василия? – Татаринов на какое-то мгновение призадумался, словно подбирая точные слова. – Пальчиков будет во всем слушаться Петрова. – Сказал он после некоторого раздумья. – Впрочем, риск того, что он сможет отчебучить что-то, в любую минуту, остается огромен. Парень он какой-то путаный, мною до конца так и непроясненный. Петров его выбрал, почему-то. Именно, его. Теперь Петрову, – и карты в руки.
Проводив увозящий Татаринова автомобиль, длинным, задумчивым взглядом, Храмов снова оставшись наедине со своими мыслями.
3. Анна Васильевна и Иван Тимофеевич
На секунду Храмов задержал свой взор на рабочих, сдирающих верхний слой грунта с холма, словно кожу, обнажая желтый глиняный ливер. Полюбовавшись их слаженной работой, и не найдя себе дальнейшего применения возле них, он направил свои стопы в избу, чтоб поближе познакомиться с ее обитателями. Здесь, ему предстояло провести несколько недель.
Храмову, впервые привелось переступать порог настоящей русской избы. Момент – волнительный для каждого впечатлительного человека. Сразу же, из темных сеней, он попал в жарко натопленную переднюю часть избы, треть которой занимала славная русская печь, из зева которой, хозяйка Анна Васильевна, доставала свежеиспеченные хлеба. Пышные булки восседали на лаве, укрытые чистыми полотенцами, чисто генералы в предбаннике.
Хозяин, Иван Тимофеевич, в это время, сидел на скамье, не выпуская изо рта «Беломорканала». У него отсутствовала левая нога. Поэтому, костыль и палка, непременно дежурили возле него.
С первыми словами, в голосе Анны Васильевны появились хлебосольные нотки.
– Милости прошу, к нашему шалашу! – скороговоркой, заговорила хозяйка, встречая юношу. – Отобедаете с нами. Зови своих товарищей! У нас так принято. Вначале надо-ть людей накормить, чтоб потом с ними лясы точить! – Взглянув в окно на свежевырытую канаву, раскроившую макушку холма, хозяйка продолжила слегка задумчивым голосом – Ишь, как споро роют! Чай, нашли, что?..
В каждом звуке ее голоса, чувствовалась настоящая поэзия живой русской речи. Этой женщине невозможно было отказать в приятной, задушевной беседе. Звонкий голос гармонично шел к ее обаятельным и добрым чертам лица, сохранившими, в виде красных прожилков, следы былого румянца на щеках. В глазах этой уже пожившей на свете доброй женщины, отражался весь окружающий мир; сохранился тот живой, неподдельный огонек интереса ко всему происходящему вокруг.
«Вроде б ангел явился, отдохнуть на ее лице». – Храмову пришел на ум поэтический образ.
– А как же! Нашли! – очнувшись, сказал Храмов. Ему хотелось оставить после себя, исключительно, приятные впечатления.
– Дай-то, Бог! – молвила хозяйка, бросая благодарный взгляд на образа, в красном углу избы. – Чай и в нас, какой-нить, комбинат откроют! – И такое, поведала: – Давеча, я ездила к своей дочери в Узбекистан. В – Навои! Может чё слыхал, о таком городишке? Дочка там, моя, в золотом руднике работает. Матерь Божья! – Всплеснула хозяйка в ладоши. – Машины, в карьере, что те спичные коробки.
– Обязательно, и здесь, какой-то город построят! – Желая уважить хозяйке, Храмова начало изрядно заносить. – А, почему б, и нет? Вот, хотя бы, на этом месте! На месте этого холма! – восклицал он в духе литературного Остапа Бендера, и Александра Македонского – основателя огромной империи и множества городов, под своим именем. – Выроем канаву – буровую поставят! – продолжал, Храмов, в духе авантюриста: – Рудник откроется. Вокруг него, появится шахтерский поселок, который, со временем, перерастет в большой город!
Во время его выступления, в избе воцарилась гробовая тишина.
– Дай-то, бог, – нарушая ее, обозвалась Анна Васильевна, снова обращаясь к образам, с крестным знамением. – Дай, бог! Здеся, в глубинке Сибири, люди будут и добрее, и честнее, и еще верят в любовь и красоту. Берегут свои души.
– И нам бы не надоть никуда ехать, – подал голос, Иван Тимофеевич. – А-то, заладили, отправляйтесь, мол, жить в Борисово! А, могилы наших дедов, я, что ль, на себе понесу? Кто за ними, тогды, присмотрит?.. Нам такой простор здеся! Хозяйство свое держим. Все у нас есть: свиньи, буренка. И правительство идет нам навстречу. Вот мотри, – Иван Тимофеевич живо подхватился, и, опираясь на палку и костыль, подскакал к фотографическим снимкам в рамах, густо увешавшими стены избы; выдёрнул из-за одной газету «Правда», и начал тыкать в шрифт узловатым пальцем. – Во! Читай! Есть постановление. Теперь крестьянин может держать не одну, – а целых две буренки.
Речь в правительственном постановлении шла: о в те времена раскрученной пропагандой, так называемой «брежневской» «Продовольственной программе». За рамами хранилось еще очень много идеологических сокровищ. Крестьяне, похоже, неохотно расставались с этим добром даже при тотальном дефиците туалетной бумаги.
«Чтоб наполнить холодильник, надо подключить его к радиоточке», – припомнились Храмову слова: «Из выступления армянского радио».
– В этой деревне, – Иван Тимофеевич, заговорил таинственно, словно признанный сказатель, – еще недавно, почитай, двести дворов имелось в наличии. Выйдешь, бывало, на одном конце деревни гармошка играет, на другом – девки поют. Очень весело было жить. А теперича, остались одни старики. В Борисово, настаивают, «переселяйтесь», избы дают. А зачем мне эта изба? – Сурово сдвинул свои брови старик, меняя тон. – Мне недолго осталось эту землю топтать.
– Куда уже перебираться таким старикам, как мы, – накрывая стол, подтвердила хозяйка. – Нам бы здесь скоротать век. Никому мы нигде не нужны. Дети наши разъехались. В Борисове у нас нет никакой родни.
– Магазин, вот, закрыли. Хлеб, раз в неделю, на подводе возют, – жаловался старик.
– Вот, сами хлеб печём! Как-то, ведь, надо-ть выживать? – Вставила веское слово, хозяйка.
За этими стараниями, Анны Васильевны, стол был украшен наваристыми щами и аппетитно пахнущими жирными ломтями настоящего жареного мяса; возвышалась в большой миске толченая на жиру картошка; в другой миске, чуть поменьше размером, лежали розовые ломтики сала; в полу-миске стояли, вынутые из бочки соленые огурчики. И, еще – квашеная капуста, сметана и молочко в крынке. Только что испеченный, духмяно издающий ароматы, хлеб, большими ломтями лежал отдельно. И все было, по-крестьянски, наложено в миски большими порциями, чтоб можно было насытиться.
Храмов позвал рабочих, – но те, наотрез, отказались.
– Некогда нам, – грубо сказал, как отрезал, Петров – Не хлебосольничать сюда приехали!
«Ладно, потом разберемся», – решил про себя Храмов.
Возвращаясь в избу, он выхватил с баула пару консервных банок – тушенку и сгущенного молока. Старикам, судя по их восторгам, еда геологов пришлась по вкусу. Они все нахваливали содержимое консервных банок. Тогда, как Храмов, в свою очередь, не упускал возможности похвалить их вкусную снедь.
Отведав крестьянских разносолов, Храмов вдруг вспомнил, что в книжке одного сибирского писателя сказано, что здешние жители едят такую травку, которая черемшой называется. Чтоб показаться человеком, подкованным в этом вопросе, он не удержался, и спросил:
– А у вас черемша растет?
– Черемша? – переспросил Иван Тимофеевич. – Как грязи! А, что? Никогда черемши не едал?
– Мы ее в банки закрываем, – сказала хозяйка. И, не успел Ваня и глазом моргнуть, как перед ним выросла на столе мисочка с чем-то ядовито-зеленым на вид. – Ежь! – сказала Анна Васильевна.
– Это не нынешняя черемша. Только прошлогодняя. Новая, иш-шо не наросла. – Вставил свои пять копеек, Иван Тимофеевич.
Храмову хватило одной ложки, чтоб понять, степень своей промашки, с этой книжною подковкою. Покатав во рту горько-соленый комок, он не знал, что делать с ним дальше. Комок застревал в горле, не лез, что называется в горло, отчего лицо его, очевидно, приобрело оттенок переживаемой невзгоды.
Видя человеческие стенания, Иван Тимофеевич, рассудительным тоном, сказал:
– К соленой… еще… надо-ть привыкнуть!
– И-то, правда! Выплюнь, Ваня, ее в помойное ведро! – велела хозяйка.
Потом они стояли вместе с Иваном Тимофеевичем около ворот. Иван Тимофеевич ткнул своей палкой куда-то в зареченскую гриву, и, как человек, чувствующий свою неоспоримую правоту, с патетическими нотками в голосе, говорил твердо, с убеждением:
– Наш чернозем жирный, хоть на хлеб намазывай. Что, ты? Знаменитый алтайский чернозем! Сунь в землю оглоблю – телега вырастет! Мериканцы хотят скупить его. Золотом соглашаются платить. Только нельзя русской землицей торговать. Последнее дело. – Закипая нутром, продолжал старик: – Я за нее кровь свою проливал. Вот эту ногу в 42-м, на знаменитом «Невском пятачке» под Ленинградом, потерял. Слыхал, о таком? – Он постучал костяшкой пальца по своей деревяшке и как-то неприветно, и непримиримо, добавил – Пусть только сунутся сюда…
Незаметно, сзади подошла Анна Васильевна. Она, наверное, давно уже попривыкла к подобным, воинственным речам, поэтому терпеливо дожидалась, пока муж выпустит весь словесный запал, чтоб навести на свое, женское. В этот раз, ей потребовалось, чтоб Храмов помог ей закрыть рамы с помидорной рассадой.
– Пойдем, Ваня, поможешь мне накрыть рассаду, – певучим голосом, говорила она – Чай ночью заморозок будет.
Стояла расчудесная весенняя погода; пели звонко птички. О каких-то там заморозках, не хотелось даже думать.
На немой вопрос Храмова, Анна Васильевна тут же начала с готовностью рассказывать крестьянские приметы:
– А как же, – говорила хозяйка – Когда цветет черемуха, – завсегда жди заморозка. Так у нас, на Алтае, с давних веков повелось.
…После таких высказываний хозяйки, в голове у Ивана отложилось мнение, что крестьяне умеют читать природу, как хорошо написанную книгу…
Храмов отчетливо услышал тяжелый топот шагов на крыльце. Он выглянул из-за избы, за которой они только что накрывали ящики с рассадой. Увидал рабочих, выходящих из калитки. В руках они держали тяжелые рюкзаки. Храмов бросился вслед за ними.
– Вы куда это собрались? – спросил он, настигнув обоих на дороге.
– Душно как-то в избе, – заюлил рабочий, вытирая обильный пот из своего крепкого чела. – Вот, решили, что лучше переберемся на берег реки. Будем жить отдельно.
– Вы будете жить в избе! – жестким тоном, прервал его Храмов. – По заветам Станислава Ивановича Татаринова. Начальника. Слышал о таком?
– Слыхал, – нехотя согласился, Петров, потупив при этом, взгляд. – Он – начальник. Перед ним – я шапку сниму. А ты, мне, никакой не указ. Ты – никто, и звать тебя – никак. Тоже мне, указчик, – процедил он сквозь зубы, вперившись, взглядом, у Храмова. – Начальничек, нашелся. – С этими словами, Петров сделал полуоборот туловища, как бы приобщая Пальчикова к мужскому разговору.
В этот момент, у Храмова, подкатился сухой ком к горлу, глаза застелила пелена ярости, а кровь вскипела от праведного гнева. Не контролируя себя, он схватил Петрова за барки рубахи и стал теребить. Но, тут же, почувствовав под пальцами упругую мощь налитых мышц рабочего, он чуть ослабил свой напор.
В таком положении, они простояли несколько долгих минут. Храмов совсем не струсил, он был готов к драке. Это, наверное, и остудило Петрова (тот, оказался, совсем не готовым к такому развитию событий).
– Пусти, – чуть разжав побелевшие губы, сказал Петров.
Храмов разжал пальцы, и рубаха Петрова сама выскользнула из них. Тот начал медленно заправлять ее.
Пока Петров неспешно приводил себя в надлежащий порядок, Пальчиков, заинтересованно, ожидал окончания инцидента. До этого, он не мог даже предполагать, что у Храмова найдется столько прыти, чтоб тягаться с Петровым.
Не проронив больше ни единого звука, рабочие взвалили на плечи свои ноши, и, согнувшись под бременем, отправились вниз по крутому косогору. Пальчиков, сверкнув иссиня синими, васильковыми глазами, еще раз обернулся, поглядев на остолбеневшего, Храмова. Петров брел без оглядки.
– Чего им надобно? – услышал Храмов за спиной, голос хозяйки.
– Не знаю, – ответил Храмов, не отрывая глаз из спин ходящих за гору бичей: – Какая-то блажь, видать, нашла на нашего Петрова.
– Пойдем, отдохнешь в избе, – сказала хозяйка. – Утро вечера мудренее. Потом, разберетесь…
4. Мечта Петрова
Просыпаются, в крестьянской избе, довольно-таки рано. Надо кормить домашнюю животину. Крестьяне привыкли руководствоваться в жизни известной поговоркой: «Кто рано встает – тому Бог дает». Когда Храмов проснулся, Анна Васильевна, обслужив свое многочисленное хозяйство, топила печь. Красное зарево озаряло ее лицо. Иван Тимофеевич, сидя в неизменной позиции на лавке, дымил своим незаменимым «Беломорканалом». Увидев, что Храмов не спит, – лежит с открытыми глазами, – хозяйка завела разговор, обращаясь в открытый зев печи, к горшкам:
– Только что корову отправила пастись. Твои-то, Вань, сидели у костерка. Грелись. Я, чинно, прошла мимо. Поздоровалась. «Померзли, чай? " – спрашиваю. И тот, что посурьезнее будет, тот, с которым ты, Ваня, вчерась поцапался, что-то промямлил себе под нос. Ночью, поди ж ты, заморозок был! – И запричитала, по своей бабьей привычке, обращаясь к кому-то вымышленному: – И до чего же вы, мужики, народ противный. Что дети малые! И чего вам в избе-то не сидится. Им, токо, добра желаешь, а они все наперекор делают! Сидели б в тепле, в добре. Горя б здесь не знали! Так, нет же: «Пойдем на берег». Дурачье, прости господи. Разве так делают? О, здоровье надо печься! – Отчитав, заочно, своих несостоявшихся постояльцев, Анна Васильевна на какое-то мгновение приумолкла. Очевидно, подготавливая в мыслях какую-то, очередную, словесную экзекуцию.
Конечно, живи рабочие в избе, она б получила некоторую выгоду. Начальник договорился хорошо платить за них. Они умели считать каждую копейку. Рабочие покупали бы картофель и молоко. А, к этому молодому парню, они привязались всей душой, с той первой минуты, когда он вошел в избу.
Ближе к обеду явился Татаринов. Первым делом отправился на канаву, к своим рабочим. Храмов подошел чуть попозже.
– Мне Петров уже пожаловался на тебя, – сказал Татаринов, встречая Храмова, на вершине холма, и, не дожидаясь объяснений, продолжал: – Петров переживает, что ты его деньги спустишь. Пустишь по ветру. Разбазаришь, – одним словом. Так, что переходи-ка ты лучше к рабочим. Поставите на берегу палатку. Она, хоть и вся в дырках, – бывшая банька, – но все же лучше, чем жить под открытым небом.
Уже перед тем, как влезть в кабину, передал Храмову, пожелание Петрова:
– Отдай-ка ты ему его деньги, что я тебе давал. Успокой «грешную душу». А, то он, бедненький, с ума, поди сходит. Этот разговор – между нами.
– Да не нужны мне его деньги! – вспыхнул Храмов. – Пусть ими подавится. Устроил канитель. Я-то, думал…
Уходя, Храмов отдал хозяевам свою пятерку. Анна Васильевна выделила ему, дополнительно, ведро картофеля и банку молока. Он поблагодарил их за проявленную доброту, и отправился на новое свое место жительства. Рабочие, сидящие на принесенном разливом бревне, встретили его сдержано. И, только при виде продуктов, взгляд Петрова немного потеплел.
…Вместе перенесли, на берег, остальные вещи…
Палаток никто из них толком не умел ставить. Без тени, каких бы то не было сомнений, они нахлобучили ветхую и дырявую холстину, на три кола, решив, что так и надо обустраивать походный быт. А, чтоб сооружение сей малой архитектурной формы, выглядело как-то более устойчиво, они присобачили его веревками к вогнанным в землю колышкам. Средний кол тут же проткнул старую, убогую холстину, и вылез неровным концом наружу, придав неэстетической конструкции совсем уже инвалидный вид. Теперь сверху, – с самой высоты холма, – палатка сильно смахивала на какого-то серого птаха – возможно, что журавля – безжалостно пришпиленного кольями к земле. Это сходство еще более усиливалось в ветреную погоду, когда холстина начинала сильно надувать бока, и громко хлопать своими входными крыльями. К тому же, многие мелкие дырочки, былые постояльцы ее, пытались замазывать красной краской, которая с годами выцвела, придавая вид засохших пятен крови. Казалось, что измученная птица, пытается со всех сил, взмыть в небо.
С тех пор, как в палатку влезла корова, и съела весь запас соли и хлеба (только что приобретенного у Анны Васильевны), они, сговорившись, развесили в ведрах остатки продуктов на вётлах под горою. Отчего те, сразу же, стали напоминать новогодние елки, увешанные подарками. Злополучная буренка оставила, после себя, полнейший бардак. Начиная с раскатанной по всей палатке картошки, измазала все вокруг липкой слюной, съела всю соль, и, словно бы в глум над незадачливыми скитальцами, оставила посредине палатки дымящуюся лепёху. Анна Васильевна, оперативно, восполнила потери хлебом и солью.
Вынужденное переселение, не добавило, Храмову, особой радости. Единственную возможность, вместо радио, выслушивать длинные откровения бывшего таксиста.
– А мне, покудова, здесь очень нравиться, – говаривал Петров. – Красота здесь. И, – расход небольшой, – прибавлял этот скупердяй. – В городе, что: повернулся, – и рупь! Гони – рупь! И, так по рублю, за день, знашь, скоко счетчик натикает?.. А, здесь расход небольшой. Я как-то подсчитал для себя…
Петров уже давно укрепил всех в своей мысли, что он скоро накопит деньги на новый «Жигуленок». Это удачное детище из города Тольятти, беззастенчиво содранное с итальянского «Фиата–124» (лучшего мирового бренда 1965 года), – устаревшая модель уже на момент начала выпуска в 1971 году, – пользовалась непомерным спросом у советских граждан. Первые образцы Ваз-2101 были собраны полностью из итальянских комплектующих – и ценились больше остальных аналогов. Стоило это вожделенное чудо советской автопромышленности, четыре годовых зарплаты заводского рабочего, тогда как на Западе – одна тысяча долларов (ползарплаты тамошнего трудяги).
Каждое утро, Петров, забросив на плече махровое полотенце, отправлялся по росной траве к речке. Пристроившись там возле омута, на большом валуне, он начинал обливать себя студёной водой, фыркать и охать на всю округу. Создавая такое впечатление, что в омут невесть как попал довольно-таки увесистый тюлень. Приняв водные процедуры, Петров, тяжелой поступью, шествовал обратно.
Однажды, Василий, проснувшись от громыхания его шагов, высунув лицо из спальника, сладкозвучно, нараспев произнес, сокровенную фразу:
– Солнце встало выше ели, а бичи еще не ели!
– Это ты, – «бич»! – вспыхнул, как спичка, влезающий в палатку, Петров. – А я сюда приехал подышать свежим воздухом! – Стало видно, что слова напарника, больно задели его, до глубины души. – Я себя «бичом» не считаю, – сказал обидчивый рабочий. – Это ты, Пальчиков – настоящий бич!.. Слышишь, Вань? У нас здесь появился бич! Так и запишем, что Пальчиков – бичара! – Посвящая своего напарника в бичи, Петров не забыл напомнить остальным: – У меня очередь на «Жигули» подошла, а денег, совсем немножко, не хватает. Пришлось, вот, подрядиться к геологам…
Однажды, он совсем уж разоткровенничался:
– Если б тогда меня не погнали с таксопарка, я б эти бабки там, в два счета заработал. Вот почему мне придется повкалывать. – Сделав выражение своего лица очень злым и неприступным, будто он кого-то видел перед собою, он, в сердцах, еще прибавил: – Я еще выведу этого козла на чистую воду! Это он меня заставил уйти из таксопарка!
Похоже, что Петров не поделился с кем-то там барышом. Копя деньги на «Жигули», он не захотел отстегивать начальству какую-то обязательную мзду. «Зажилил», – если сказать, одним словом. Его, очевидно, предупреждали каким-то образом. Но, ослепленный жаждой наживы, Петров, не внял начальствующему гласу, и его, под каким-то надуманным предлогом, выставили за ворота таксопарка, лишив престижной работы и приличного заработка.
Позавтракав, оба рабочие, медленно, потащились на канаву. Оттуда, с вершины холма, под аккомпанемент гулких ударов кайла об песчаники, вплетенные в натруженное сопенье, можно было долго слушать мантры Петрова о вожделенных «Жигулях», обязательно – вишневого колера.
5. Ошибка
Тем временем, Храмов, наконец-то, уселся за обязательные вычисления процентного содержание урана по всем добытым на участке точкам. Со всех дыр в земле, на которых он сделал замеры накануне с помощью рабочих, пёр торий-90! Радиоактивный изотоп тория никому был не нужен. Нужен был уран! Для ядерных бомб. Для ядерных электростанций, ледоколов и спутников. Для ядерной мощи Советского Союза.
Храмов, в сердцах, отбросил тетрадку с вычислениями, и, не помня себя, отправился на берег, развеять свою кручину. Душу скребли кошки его мнительности. Храмов корил себя в мыслях за опрометчивое решение, разрешив Татаринову копать канаву, в этом месте. Портил настроение еще и тот факт, что он уже наобещал живущим здесь старикам: «Устроить здесь целый рудник». Да, еще, с целым городам будущего, в придачу. Он прочно сжился с этими намерениями. Свои фантазии, он уже считал, поди, реальностью. С присущим – юношеским максимализмом. Больше всего на свете, он опасался прослыть в глазах уважаемых им людей – лжецом. Постигшее разочарование, разрушило воздушные замки. Звон битых стекол, заполонил все его мысленное пространство.
Он долго бродил по берегу речушки, глубоко погрузившись в свое нервное состояние. Храмов всерьез считал себя виноватым в том, что он позволил затеять здесь никому не нужную канаву.
Хотя, эта канава давно уже существовала в планах Татаринова, и, чтобы там не вычислял Храмов, она должна была появиться на определенном месте. «Планы партии – планы народа», еще никто не отменил, в 1981 году. В этом месте – геологической партии.
Храмов был совсем еще юн, и до конца не понимал всех этих взрослых игрищ в социалистическую экономику, когда, ради выполнения плана любой ценой, на забракованных аномалиях, организовывались схожие работы. Ему еще предстояло вжиться в эту систему, или, спасая душу, уйти из геологии. Слишком уж неравным, выглядело это противоборство.
Среди геологов этой партии ходили злые шутки, что даже если удастся кому-то открыть в этом месте месторождение, то его тут же зароют обратно, чтоб избежать структурных перестроек. Многим давно уже стало выгоднее выполнять «потихоньку» план, и получать в свое удовольствие, зарплаты и премии. Старшего геофизика этой экспедиции, как-то уже понижали до уровня партии только за то, что под его руководством как-то прозевали одно небольшое месторождение урана.
Храмов отправился вдоль речки, вверх по течению. Дойдя до поворота реки, где она как бы вытекает из-за горы, он потоптался возле звонкого переката. По ту сторону речки, частоколом на фоне мрачного неба, торчали темные зубцы вершин высоких вековых елей. Берег был увит густыми зарослями черемухи, ветви которых, пенистым цветом, ниспадали до самой воды. Мысли о постигшей неудаче, заполонили все его сознание; одна сумрачнее другой. Уродливые домыслы корёжили буйное воображение, создавая причудливые призраки неотвратимого краха карьеры. Храмов, без конца, прокручивал в памяти тот злосчастный эпизод, когда он разрешил копать эту нелепую канаву. Поправить что-либо, – в его понимании, – было, уже, слишком поздно. Про себя он уже решил, что постарается как можно скорее выбраться отсюда. У него было соглашение остаться с Татариновым, вместе, до конца этого полевого сезона. Теперь об этом – не могло быть и речи.
Он обратил внимание, что уже долго топчется возле одного переката. По камешкам, подпрыгивая бурунами, бежала студеная вода.
…Неожиданно у Храмова возникло желание перебежать по перекату на другую сторону речушки, добраться до дороги, которая, огибала какое-то болотистое пространство, и выйти на мостик, чтоб вернуться в деревню…
О существовании проселка, он знал с подробной карты, которую заучил наизусть. Перебравшись через заросли дикорастущих густо пахнущих кислиц, Храмов очутился в царстве леших и кикимор. Справа от него простиралось кочковатое, бескрайнее болото, выходящее за края крупномасштабной карты; слева – белая стена березового сухостоя, в палец толщиной. Тронешь такую березку, – и она ломалась, будто спичка. Потревоженная болотная жижа, томила обоняние тлетворным запахом гниения. Кромсая мертвый березняк, он забирал чуть-чуть в сторону гривы. Ему казалось, что так он не сможет ошибиться. Он обязательно подсечет дорогу, которая выведет его к мостику, к деревне.
Но, прошел уже битый час (как ему казалось), а признаков искомой дороги – не предвиделось. Наоборот, болото становилось все мрачнее, и глуше. Храмов заразился внутренней паникой – все больше забирая влево. Под ногами появились болотная хлябь. Между кочками, в рытвинах, с химическими разводами, появилась рыжая стоялая вода. Начал накрапывать мелкий, сиплый дождик.
Тогда Храмов остановился, чтоб привести свои мысли в порядок. Достал сигарету, и опустился на высокую кочку. Неожиданно для себя услышал звенящий голосок переката. Он звучал, словно колокол спасения! Храмов побрел на этот зов, и в скором времени достиг того места, откуда, опрометчиво, начал свое вхождение.
Не заходя в палатку, он отправился к крестьянам. Нашел тех, сидящими, в жарко натопленной избе.
Выслушав его сбивчивый рассказ о болотном злоключении, Анна Васильевна, картинно скрестила на грудях руки и покачала головой.
– Зря ты туда ходил, – посетовала она. – Там даже волки водятся.
– Болото наше, нехожено, – раскуривая очередную папиросу, вступил в разговор, Иван Тимофеевич. – В нем, сказывали старые люди, какой-то татарин жил. Давно это было. С тех пор-то, и речку нашу Татаркой кличут! Золота в того татарина, почитай два куля было! Но пуще золота, – голосом вещуна, продолжал хозяин, – Татарин энтот, свою дочку берег…
Слушая рассказ старика, Храмову стало как-то не по себе. Неожиданно он почувствовал в голове какую-то звенящую пустоту, голову, будто обручем сдавило, вызывая легкую истому. Перед глазами хаотично замельтешили какие-то мелкие, покалывающие в виски, звездочки. Появился легкий озноб. После этого он стал погружаться в какую-то мягкую, словно выстланную ватою, темную яму…
Очнувшись, он увидел над собою склоненное лицо Анны Васильевны.
– Очухался, – молвила хозяйка. – А ведь! Так напугал нас! Белым сделался. Точно мел, белым!
Слова хозяев, доходили до сознания Храмова, откуда-то издалече.
– Наверное, в болоте прохватило. – Голос Ивана Тимофеевича прозвучал набатом. – Малины – достань! – Словно из иерихонской трубы: – Кипяточком пусть нутро попарит! На печь, затащить его, надо-ть.
И, снова зажурчал, нежный голос хозяйки:
– Сегодня ты, Ваня, ты никуда отсюдова не уйдешь. Переночуешь у нас…
Вдвоем, они помогли Храмову забраться на печь. Где, забившись в коротком сне, он уже не слышал, когда хозяйка ходила на берег, чтоб предупредить Петрова о том, что он останется ночевать в избе. (О том, что Храмову сделалось плохо, Анна Васильевна решила не говорить).
Вернувшись, достала малины, а потом вскипятила для гостя воду. Сама взбила ему перину.
– Здесь раньше моя доченька жила, – провожая его в горницу, говорила Анна Васильевна. – С Иваном Тимофеевичем, мы, ведь, только с недавних пор жизнь наладили. До этого, у каждого из нас были свои семьи. Вот сошлись, – и коротаем жисть. Сколько нам, ее осталось? С тех пор, как дочь уехала в Узбекистан, я в этой горенке, уже, никому не слала…
…Проснулся Ваня, довольно-таки поздно. За окном виделась пасмурная, дождливая погода. Накрапывал мелкий дождик. В комнате было тихо-тихо, потом, вдруг, послышались кроткие шаги; скрипнула половица, и в дверном проеме показалась улыбающаяся Анна Васильевна.
– Проснулся, чай? Вот, и хорошо… Я, вот, что принесла. – Достает из-за спины баночку, до половины наполненную серыми камешками, и подает Храмову. – Узнаешь?
Храмов поднес баночку к глазам. Камешки, как камешки. Таких можно было за пять минут набрать на берегу Татарки. Настораживали лишь рыженькие пятнышки.
– Узнаешь? – повторно спросила, Анна Васильевна.
– Нет, – сказал Храмов, возвращая баночку назад. – Я, ведь, не геолог, а геофизик. – Еще, будто в свое оправдание, добавил: – По-работе, мне приходится всегда иметь дело с приборами, а не с каменьями.
– Это же золото! – повысив голос, сказала хозяйка. – Я его на руднике взяла, когда гостила у своей дочери! Возьмешь себе на память?
– Зачем оно мне, – сказал Храмов, улыбнувшись: – Не все то золото, что блестит! Мне останется благодарная память о вас, Анна Васильевна.
– Как знаешь. – Лицо хозяйки сделалось серьезным. Пряча под передником баночку, она, будто спохватившись, сказала: – Начальство, тобою интересовалось. Я не дала будить.
Выйдя на крыльцо, Храмов увидел стремящегося навстречу геолога. Поздоровавшись, Храмов решил сразу же признаться во всем:
– Станислав Иванович, – это ториевая аномалия. Я должен был сказать вам давно об этом. Но, узнал об этом только вчера, когда сделал глубокую обработку материалов.
Татаринов молча выслушал молодого коллегу. Опытного геолога подмывало разыграть перед новичком небольшой спектакль, обвинив его в невнимательности, но он удержал себя от такого соблазна. Все могло легко открыться, и, тогда, пришлось бы как-то вышучивать ситуацию. Он нашел, что выглядел бы, перед этим непосредственным юношей, не совсем привлекательно. Слишком много людей знало об этой аномалии. Поэтому решил открыть перед ним голую правду, рассчитывая на продолжение сотрудничества.
– Это пять лет уже не для кого не вопрос, – начал рассказывать Татаринов. – Эта ториевая аномалия была открыта какими-то студентами из Ленинграда. Суть этого вопроса теперь для нас не столь важна. Когда канава уже выкопана, тебе остается лишь подправить показания прибора, чтоб на бумаге уровень процентного содержания урана выглядел немногим выше ториевых показателей. Этим, я смогу обосновать начало работ на этом участке. Это станет вкладом отряда в годовой план нашей экспедиции по выемке грунта. В конце года, всех ожидает достойное вознаграждения. Больше от тебя ничего не требуется. Ферштейн?
– Ясно, – сказал Храмов. – Можно, я сегодня же уеду отсюда?
Повисла тяжелая пауза.
– Как знаешь, – сказал геолог, после некоторых раздумий. Это значило одно, что ему снова придется искать себе нового геофизика.
…Целый день, они провозились в грязной канаве. Татаринов добавил своим рабочим копать еще десять метров…
Храмов быстро сделал свою работу: подправив процентное содержание урана, меняя некоторые отсчеты. Этим жила вся страна; этим жил, теперь, и Храмов. Ему было так противно на душе, словно его заставили делать что-либо противоестественное и зазорное, чего он делать не должен ни при каких обстоятельствах. Таковы были правила игры в плановую экономику.
Справившись с поставленным заданием, он неспешно начал слаживать старенькие геофизические приборы в ящики (у принимающего их, не должно возникнуть к нему, дополнительных, вопросов).
…Сидя в кузове уезжающего автомобиля, Храмов видел, как возле крайней избы, на дороге появилась пожилая пара. Они негромко попрощались с ним, и теперь молча наблюдали за отъезжающим автомобилем. Весь холм открывался его взору. На вершине, упершись в заступы своих лопат, застыли памятником самым себе, Петров и его верный попутчик Пальчиков скабрезные рабы житейских обстоятельств. Неожиданно, в лучах заходящего солнца, на макушке развороченной горы, словно эпический памятник самому себе, возник темный силуэт: Винтовкина. Винтовкин грозил ему пальцем. Храмов закрыл глаза, и снова открыл – Никодим исчез, на том месте, оставались – Петров и Пальчиков. Храмов – снова – нащупал взглядом стариков. Две старческие фигурки на дороге, возникшие на дороге, они подняли свои руки и качали ему вслед. Руки «выписывали» в воздухе, какие-то сложные символы, очевидно, обращенные в его будущее, какими-то библейскими каноническими сюжетами о путях Господних, неисповедимых…
– Не все то золото, что блестит, – тихо, шепнул Храмов. – И, сразу же, защемило в его груди; на глаза наворачивались слезы, будто здесь, в этой забытой богом деревушке, осталась навсегда, частичка полюбившего сердца.
2012
В гостях у экопоселенцев
Сорваться, и отправиться куда-нибудь, вынашивая в себе какой-то приблизительный план, как тот, что возник у меня, в самом конце той зимы: для того, чтоб завершить свои творческие дела, – вдохнуть в них, наконец-то, всю свою творческую мощь, – мне потребовалось пожить в каком-то заброшенном поселении.
«Необходимо, на сэкономленные средства, приобрести в маленьком селе какую-нибудь полусгнившую развалюху, чтоб сменив обстановку мегаполиса на сугубо сельскую, грохнутся о нее, всеми гранями своего творческого начала», – вдохновлял я себя на этот подвиг, прикидывая в уме, как это все будет замечательно выглядеть в реальности.
План, сам по себе, не казался мне сложным для реализации. Схожих планов в моей голове всегда роится превеликое множество, большая часть из которых, сгорает в топке ежедневной суеты сует, так и не дождавшись своего воплощения. Об этих пусто цветах, я, даже, и не вспоминаю, потом. Некоторые, все же, развиваются во мне, совершенствуются, созревают в количестве плодов, достаточных для ситного пропитания моего творчества.
Экономический кризис захлестнул всю страну высокой волной безработицы, сделав городскую среду обитания весьма неуютной. Мне еще очень свезло: я аккумулировал некоторые средства. Теперь предстояло сыскать подходящее поселение в самой непосредственной близости от города, чтоб не прозевать тот удачный момент, когда экономика пойдет на подъем, и вернуться назад.
Схожая жизнь, называется – «дауншифтинг», – то есть: отказ от карьеры и больших доходов, ради простой жизни на земле.
У меня имелся некоторый опыт выживания в заброшенном селе, в Сумской области, небольшие честные сбережения и естественное желание закончить первый роман о своем сельском опыте.
Перед поездкой, я прочесал Интернет, – выйдя на страничку экопоселения Ромашки, – я, тут же, загорелся жгучим желанием, поскорее отправиться на поиски собственного жилья. Как добираться в это село, я не нашел в блогосфере, но, поскольку, это была, все та же, Киевская область и Мироновский район, – то, на мой взгляд, Ромашки, должны существовать в пределах достижения маршрутного автобуса.
Я купил географическую карту, чтоб мысленно проследить свой маршрут: но – к моему неудовольствию, – села, с таким экологически чистым названием, в искомом районе, я не обнаружил. На интернет-странице, оговорюсь, имелись некоторые фотографические снимки, сделанные в этом поселении, так что в его существовании, сомневаться не приходилось.
Я решил отправиться наобум, а еще точнее, доверившись своему наитию.
В первый день поисков, мне удалось добраться только до районной, Мироновки. На автостанции я, неожиданно для себя обнаружил (узнал у водителей маршрутных такси), что село, с таким благозвучным названием, находится в соседнем, Ракитянском районе. Это значило: необходимо возвращаться в Кагарлык, с которого, можно, пересев в автобус, добраться до этого села.
Уже в электричке меня снова переубедили: что существует еще одно село, с таким красивым названием, – маленькое и совсем заброшенное, – как раз то, которое мне надо, – оно-то и находится в том, таки, Мироновском районе. Собеседник, быстро набросал мне подробный план подъездных путей.
На следующий день, я отправился, на электричке, в Кагарлик.
Путешествуя все эти дни по железной дороге, в маршрутных такси, я повстречал много разных людей. О чем-то переговаривался с ними. Чем дальше я удалялся от столицы, тем проще становились люди, непосредственнее и доступнее для моего понимания.
Брошенные на произвол судьбы, они, получив в дороге статус пассажира, тянулись ко мне со своими проблемами, обнажая, их социальные корни. В непринужденной обстановке, я узнавал об их чаяниях и отчаяниях.
Я снова окунулся в провинциальную жизнь, и мне казалось, что я стою на правильном пути. Пока бушует этот кризис, я постараюсь завершить свой многогранный роман, чтоб, потом, вернуться в столицу, уже, после того, как завершатся все треволнения.
Пассажиры говорили все больше о политике (на начало следующего года, намечались выборы президента). Мнение этих людей, – я знал по опыту своего сельского выживания, – ничего не значило, поскольку как такового быть не могло, априори, а было решение тех, кто сделал выбор за них, за кого эти люди должны будут проголосовать. Во мне не существовало иллюзий, поэтому я не вникал в этот спор, старался только слушать, и запоминать.
Вот, напротив, приютился какой-то неказистый мужичонка с помятым лицом алкаша, который, в эту раннюю пору, находился уже под шефе.
– Ты знаеш, шо такэ АКМ? – задевает меня, странным вопросом.
Я отвечаю уклончиво:
– Догадываюсь.
– А, шо такэ «неправильна пуля»? – спросил пьяница.
– Со смещенным центром? – переспрашиваю.
Я понял, что попал в аналог махновской контрразведки. Так прощупывают тех, которые кажутся подозрительными.
– Скоко калибров в АК? – продолжал он, свой допрос.
Меня спасает полустанок «Кагарлык». Потратив еще полчаса на поездку, я попадаю в этот сугубо провинциальный городишко, с тем же названием. Жду еще часа с два автобуса возле большого озера, и, наконец-то, усаживаюсь в рейсовый автобус, и к полудню достигаю города Ржищева, в котором, ближе к вечеру, в самом центре, сажусь в маршрутное такси, которое везет меня, в неведомые мне, Ромашки. Несколько часов в пути, заставляет меня по новому оценить «правильность» своего выбора. Только изредка маршрутка пересекает какие-то полудремотные сёла.
За окном, тянутся родные поля, перемежаемые балками и оврагами; просторные и тихие, покорно ждущие семян, пашни. Над черною землею, над бывшими колхозными полями, грязно-серой хламидой, висит неприглядное мартовское небо…
Начинают сгущаться сумерки. Вот, водитель тормозит возле развилки.
– Оце и е: твоi Ромашки, – сказал шофер, открывая дверь.
Никаких Ромашек я сразу не обнаружил, только указатель – «Ромашки», – и серую корку, покрошенного по сторонам, асфальта, который вел куда-то в кусты, обозначая направление. Приближающийся вечер, заставлял меня торопиться, чтоб поскорее, засветло, отыскать хоть какой-то кров над головой. На календаре, в аккурат – 8 марта 2009 года, – по советскому летоисчислению: «Международный Женский день».
Через километр мелькнули, в просветах, крыши первых хат. Это была относительная видимость человеческого жилья.
Надо отдать должное предкам: они умели строить жилье из любого подручного материала. Достойных лесов, – визуально, – вокруг не наблюдалось; хаты казались мне маленькими, чем-то напоминающие избушки охотников-промысловиков, которые встречались на моем жизненном пути в глухой тайге.
Первая же попавшаяся хатынка, в зарослях молодого подлеска, с приметным огородом, куда меня привел по кустам машинный след, оказалась хата экопоселенца.
Пристанище было выстроено над глубоким оврагом, служащим одновременно сельской улицей, если смотреть со стороны дворика. Ступая по разбросанному вокруг белому песку, я заметил, сложенное из кирпича, «жертвенное огнище»; огород, оказался, обустроен какими-то рукотворными валами. Жилище оказалось, не запертым внутри, пахнущим глиной, что красноречиво указывало на то, что давно не отапливаемое. Это, естественно, не добавило мне особого энтузиазма, хотя, на первый взгляд, я подумал, что здесь можно остановиться на ночлег.
Дальше, я отправился искать обитаемые хаты. В центре села я наткнулся еще на подобное обиталище, обрисованное таинственными знаками. Похоже, что, его тоже, облюбовали себе экопоселенцы.
Через несколько метров, от меня попытался скрыться какой-то местный обитатель. Стоило некоторых усилий, чтоб догнать его. Поздоровавшись с аборигеном Ромашек, спрашиваю:
– У вас живут еще экопоселенцы?
– Вони, почти всi по роз”iхались, – сказал он, почесывая затылок. – Остались, тiльки: Андрий та Петро. Андрiй, живе – на початку села. А, Петро, зi своею жiнкою, далi, як пойти цiею дорогою. – Он указывает направление, по которому я должен пойти, чтоб найти Петра, если не дождусь Андрея, который часто, – по его словам, – отлучается…
Я тороплюсь той же дорогой назад, поднимаюсь крутым склоном наверх… и снова попадаю к хате Андрея, – к той самой, в которой намереваюсь переночевать. Для меня, это значило, что Андрея в Ромашках нет, следовательно: свежий машинный след, который привел меня к его жилищу, указывает на то, что он куда-то отъехал.
Я снова спускаюсь по крутому склону вниз, и отправляюсь на поиски жилища другого экопоселенца – Петра.
Он встречает меня возле своей хаты, которая больше чем остальные здесь, похожая на человеческое жилье. Своим видом, Петр смахивает, на блаженного инока. Чуть выше среднего роста, строен, я б даже сказал: он имеет приятную наружность средневекового русича: с копной светлых овсяных волос, перевязанных белой повязкой, которая делает одухотворенный лик, схожим на былинного волхва. Голубые глаза смотрят на мир: кротко и почти добродушно. Этот мой, прежде всего, неожиданный визит, несколько нарушал его семейную идиллию, внеся в нее известный дискомфорт. Что заставляло его вести себя несколько настороженно, по отношению ко мне. В его хате, за моей спиной, постоянно ощущалось какое-то оживление: я заметил молодую женщину и ребенка-девочку. Всего в нескольких словах, я быстро объясняю: кто я таков, и чего ищу возле его пенат. Скоро, его взгляд теплеет, он даже выводит меня на свой «огород», – скорее всего пространство, – где он, среди трав и дикоросов, закапывает весною зерна, чтоб осенью собрать урожай. Потом он ведет меня назад по селу, до хаты Андрея.
Я должен буду задержаться в ней на ночь, чтоб утром, – часов в одиннадцать, – вернуться на трассу, чтоб отправиться назад, в Киев. Петр семенит впереди меня, быстро перебирая ногами, только босые пятки сверкают в сумерках. По дороге, он поведал, что ходит так всегда, с тех пор как поселился здесь, в 2004 году. Он сообщает мне, что:
– Андрей, видимо, уехал с друзьями, и, похоже, вернется только к полуночи. Но, ежели, не вернется, то – не беда. Я смогу продержаться, в его хате, до утра. Есть печка, и небольшой запас дровишек.
Петро уходит, – я остаюсь один, в темной хате, с низким потолком и крошечными окошками, на подоконниках, которых, лежат высушенные травы, в виде каких-то инсталляций. В хате витает сильный запах глины, от которого, в темноте, возникает ощущение сырой ямы. Чтоб успокоить себя, я зажигаю свечу, и ставлю ее на обнаруженное пианино. В углу вижу сундук, засланный старым покрывалом; расписанные мелками стены, которые, слой за слоем, покрывались свежей глиной. «Магическими символами» испещрены все стены, которые похожи чем-то, на детские рисунки, на асфальте. Печь, занимающая треть комнаты, очевидно, служит поселенцу жестким ложем. Разложить огонь мне не удалось, поскольку я не обучен был растапливать печи без поддувала. Пугливое пламя не желало разгораться на сырых поленьях, которые отчаянно шипели, дымили и совсем не выделяли никакого тепла. Забрался в верхней одежде на холодную печь, укутавшись покрывалом (сняв его из деревянного сундука); достал наушники, вставил в телефон и попытался поймать хоть какую-нибудь, музыкальную радиоволну, – но все радиостанции молчали, отдалившись, от меня, змеиным шипением. Постарался уснуть, чтоб скорее скоротать долгую ночь – этот кошмар черной дыры, в которую превратилась вся хата. За окнами, в это время, стало совсем черно. Всеми фибрами, всем естеством, я почувствовал, что больше никогда – в обозримом будущем, – не поселюсь вдали от столицы. Захотелось, чтоб поскорее закончилась эта глупая ночь, когда я снова смогу спрятаться в каменных джунглях цивилизации. Страха не было никакого, – было ощущения бесконечной пустоты пространства!
В полночь меня разбудил гул подъезжающей машины. Послышались человеческие голоса, вспыхнул яркий электрический свет. Молодые заросшие люди приятной, одухотворенной внешности, заполнили собою все пространство избы. В тесной хате, они казались большой человеческой толпой (на самом деле, было только четверо: три парня и одна девушка).
Когда им навстречу, с печи, поднялся завернутый в кокон человек, кто-то из них озадачился вопросом:
– Кто такой, будете?
– Да, вот… Явился к вам, собственной персоной, чтоб выяснить… – Перечислил, спрашивающему, все свои пожелания. – Нашел, – говорю, – в Интернете ваше поселение, и решился на этот кратковременный, но дружественный визит.
Мои слова, похоже, нашли понимание в сердцах молодых людей; они смягчилась лицами.
– Потом разберемся, – сказал молодой человек, очевидно хозяин жилья. – Можете, пока, располагать нашей гостеприимностью.
Молодые люди, побродив по хате, полезли в подземелье, которое копал Андрей прямо под печью (вот почему, пространство вокруг его обиталища, было засыпано белым песком).
Скоро молодежь, на ночь глядя, отправилась в Киев.
Андрей, быстро растопив печку, – поскольку дрова уже к тому времени подсохли, да и опыт помогал ему, – согрел свое жилище (очаг, очевидно, сложил сам, как на душу легло).
– Утро вечера мудренее, – сказал Андрей. – Будем отдыхать. Мы только что приехали с Черкасской области. Там существуют такие же поселения. Это были мои друзья. Утром поговорим на эту тему, а сейчас – спать!
Утром, как только забрезжил свет в окошке, я поднялся, чтоб осмотреться основательно. Времени до одиннадцати часов, у меня было предостаточно. Я привык вставать по-деревенски очень рано: в пять, а то и в четыре часа. Сходил на соседнюю фазенду, все еще прицениваясь: представлял, как бы жил в ней, если бы мне ее продали.
Все заросло кругом, как в джунглях, настоящих, деревенских. Пахло талой водой, – и весной.
Я сходил с Андреем за водой, после чего он показывал мне свой огород, рассказывая, для чего служат, те, насыпные валы, на его огороде. В них оказывается, он прикапывал землею разный мусор, который будет служить компостом.
Мы просмотрели снятую, операторами СТБ программу об этом поселении. Это была работа профессионалов: чистая, контрастная. Чего не скажешь о его любительских съемках.
– Мое кино, пока что уступает им по качеству, – указал на очевидные факты, Андрей: – Но я, как мне кажется, на правильном пути.
В фильмах телевизионщиков, прежде всего, рассказывалось о том, как некий парень, получивший хорошее образование, бросил работу в Киеве, которая приносила баснословные прибыли, – миллионы! – и отправился жить в заброшенное село. Экстрасенсы, которые должны были узнать это, соревновались между собою, кто ближе всего приблизится к истине.
– Ну, не миллионы, – поправлял работников телевидения, поселенец, – это сильно сказано. Просто, хорошую работу, приносящую приличный доход, позволявшую мне безбедно проживать в столице. Я, впрочем, и здесь, через Интернет, занимаюсь маркетингом, помогая фирмам находить рынки сбыта. Это дает возможность, поддерживать какой-то уровень жизни. Молоко – стоит дешево; хлеб я, тоже, покупаю в магазинах.
Мы еще, какое-то время, поговорили об экопоселениях, о проблемах его жителей. Оказывается, предыдущее поколения молодых декаденствующих людей, тоже искали какие-то формы гармоничного проживания в природе, по учению того же Порфирия Корнеевича Иванова или Шри Ауробиндо.
Когда-то, я даже ездил даже в Москву, искал способы выезда в Ауровиль, пока на долгое время не осел в заброшенном селе, где много лет выращивал клубнику на продажу. Опыт выживания, в этих условиях, у меня был достаточно солидный.
– Сейчас мы следуем учению Анастасии, – сказал Андрей.
Он подробно объяснил суть этого учения, которое ничем не отличалось от тех, которые доминировали в свое время, и очень воодушевляли нас, тогдашних экопоселенцев.
Я знал многих людей, которые находили в этом смысл своей жизни. Это были достаточно образованные люди, обладающие большими познаниями, которые, отдохнув душой и телом на природе, воспитывали детей и возвращались жить в свои городские квартиры.
Петро, – по словам Андрея, – был отличным врачом, – и его жена, тоже имеет высшее образование.
В мое время, рядом со мной жили люди окончившие факультеты МГУ – юридический и физико-математический…
Количество индивидуумов, способных повторить этот трудный путь самосовершенствования, отнюдь, не уменьшилась.
– Как сейчас попадают в эту систему? – Задаю вопрос.
– По-разному, – отвечает он.
– Девушка Камила, которая жила со мной весь этот год, попала сюда из Киргизии, через Австрию, где проживала несколько лет, пела в опере, а потом, приехав в Киев к своей сестре, скоро перебралась к нам. Каждый человек ищет свой путь восхождения. Всем этим людям, по большому счету, стало тесно в мире людей, в мире денег и ложных человеческих ценностей. Они приобретают здесь новых друзей, живо общаясь между собою. У нас большие связи на всей территории бывшего Советского Союза.
– А что местные? Не досаждают? Много ли здесь алкашей? – Задаю животрепещущие вопросы, интересующие меня.
– Да, нет, не много, но есть, – отвечает поселенец. – Попробовали, было, покачать свои права, но мы их быстро урезонили. Вроде, теперь, ведут себя спокойно. К тому же Петро, он, практически, безобидный человек.
– Божий человек, если судить по Толстому. Сестра Андрея Болконского, опекалась такими людьми, – догадался я, перечитывая знаменитый роман.
Мы зашли на мою страничку, на одном из литературных сайтов.
Перед самым моим отбытием, неожиданно, явился Петр со своей женой Ольгой, и пятилетней дочуркой. Дочурка была самим воплощением их красивой трепетной любви этих духовных людей. Ради нее, стоило бросить карьеру и друзей, чтоб пожить здесь, в естественных условиях выживания. Теперь, в дневном свете, я смог подробнее, рассмотреть их лица. Они потрясали воображение своим естественным видом, очевидно души этих экопоселенцев, отразились на их лицах. Какая-то тонкая былинная красота была разлита в них, искрилась с открытых голубых глаз. Вся семья находились ближе к природе, чем к людям: чистые, светлые, одухотворенные лики, хоть иконы с них рисуй.
Я читал их, как открытую книгу, в которой рассказывается о том, что мы потеряли навсегда, запутавшись в цепкой паутине сложных социальных отношений, пройдя все стадии метаморфоз – расслоений, – усложняя и без того сложные отношения между собой. Они были воплощением того естественного мира, который мы потеряли навсегда. Они вернулись туда, чтоб жить в любви ко всему живому…
…Напоследок, Петр протягивает мне сверточек со снедью. Я не могу ему отказать, насколько естественным выглядит его желание сделать человеку добро, лишив этого, я, уверен, сделаю ему очень больно. Я вижу насквозь эту жизнь, – эта пища скудная, рассчитанная на минимальное количество калорий, необходимая дневная норма для поддержания духа в теле, – остальное додаст дух земли – Природа.
Я жил подобной жизнью долгие годы, и не мог отказать ему в том, чтоб он, лишний раз, проявил свою доброту. Уходя по дороге, я долго ощущал на себе их взгляд, полный человеческого участия и достоинства. Смог размотать сверток, только оказавшись на остановке, где еще полчаса вынужден был ожидать проходящее маршрутное такси, чтоб добраться, прямиком, на Киев (оказалось, что можно добраться и так). В свертке оказались два пресных пшеничных коржа, – выпеченные прямо в золе, – и вкусные сушки, из диких яблонь и груш.
2010
Егоршин
Стоя во дворе, я услышал из-за забора, с дороги ведущей к Сейму, знакомый с детства голос Егоршина. По-уличному – Петьки. С разлитыми в его голосе, нотками, какой-то теплой (немного наигранной) бодрости:
– Здравствуйте! Приехали в гости?.. – Он, ко всем уважительно обращался на «Вы», не соизмеряя возрастов. И, сразу же, безо всяких обиняков, за этими словами, последовало: – А я Вашей маме помогал! Носил ей картошку в погреб!
Повернувшись, я обнаружил возвышающуюся над забором голову, покрытую незаменимым здесь картузом-«шестиклинкой», изделием славной Конотопской швейной фабрики, имеющим надежный спрос на протяжении полувека; под ним угадывалась обширная лысина. Скуластое лицо настоящего русака, светилось неподдельной кротостью. Егоршин, был невысокого роста; худощавый мужичонка, выглядящим под шестьдесят лет. Его слова прозвучали, как пожелание попасть ко мне в гости, чтоб выпить чарку горилки.
Прежде чем, попросить его за стол, мне предстояло вытряхнуть с головы целый ворох накопившихся забот, которые преследовали меня в селе. Мать серьезно доставала колхозная быдлота, пытаясь заставить ее освободить собственную хату, в пользу сестры. (Еще впереди предстояло пережить похабное судилище и жестокий раздел небольшого жилища, – а, пока, вся местная школота, подогреваемая тёткой, донимала мать своими сплетнями).
Мне часто приходилось курсировать между селом и Конотопом, где я работал на одном из многочисленных заводов. Мать, слепую и немощную, с трофическими язвами на ногах, постоянно стремились выставить на улицу. После смерти бабушки, не осталось завещания. Мать жила вместе с ней; с моим старшим братом и его женой с сыновьями. Тетка появлялась наездами, больше времени предпочитая оставаться в Конотопе, у собственной дочери. Навевая, матери, что она вернется насовсем, и они заживут вместе; всякий раз все глубже забивая клинья раздора, между матерью и ее невесткой. Брату пришлось отделиться, чтоб только избавиться от начавшихся семейных ссор. Мать чем смогла тем помогла своему сыну; в основном, деньгами. Таким образом, тетка расчищала дорогу к захвату. Потом, заручившись поддержкой местных деятелей, при поддержке тогдашнего председателя сельского совета, Вани Черного, проживавшего напротив, мать заставили подписать «добровольный раздел» – она получила: комнату, без выхода на улицу. Сестра сразу же дала ей понять, что матери нет места в ее жизненных планах, и начала, планомерно, «выживать» мать из жилища.
Когда я появлялся в селе, тетка нарочито, провоцировала скандал: «бегала по улице», «встречая» по дороге якобы к своему сыну колхозных подружек, таких же сплетниц-доносчиц, какой была и сама у колхозных начальников. Это ее стихия: наговоры, заговоры, приговоры, наветы! Она имела в селе незыблемый авторитет, особенно, у начальников-сексотов. Я наивно полагал, как всякий идеалист-романтик, стремящийся попасть в литературу из центрального входа, что времена наступили иные, и этим она ничего не добьется. Кем только они меня не пытались уличить! В наркомании! В том, что я оставил сироток в России! Даже… в педерастии (без такого обвинения перечень мнимых грехов выглядел бы неполным). Доносы ее дочки, читали мне, все те же, конотопские милиционеры. Эти две, прожженные, б***и, просто бесновались на глазах, в одуревшей от сплетен, колхозной толпы. А меня, тогда, все больше мучили другие, литературные, проблемы. Меня долго не печатали; о причинах я могу лишь только догадываться. Хотя ответы из московских редакций, таких как «Литературная Россия» и «Литературная учеба», согревали мое самолюбие. Это держало меня в колее, и заставляло дальше трудиться над своими текстами. Время горбачевской перестройки, я считаю, самое лучшее для оправдания юношеских надежд! Тетка, в очередной раз, разобрав печку, до смерти напугала мать, что пообещала что «забьет дверь». Такое право, похоронить мать в собственной хате, мог дать только конотопский суд (самый гуманный суд в мире! ).
Короче, пока тянулась вся эта волокита с судами, мне приходилось, после работы, отправляться в село. Тетка, обычно, «убегала к своему сыну Боре», по дороге «встречалась с Парасиной (такой же сплетницей)», которая должна была выступить на суде, в качестве свидетельницы «теткиных, непомерных, страданий». Это надоедало, но я вынужден был дежурить возле матери.
Я помнил Егоршина еще с детства, как незаметного и скромного труженика колхозного зернохранилища. В годы школьной учебы, в колхозном селе, мне, приходилось отрабатывать «трудовую четверть» в колхозе, именно в зернохранилище.
Основная часть моих сверстников, пристраивалась на сенокосе; на лошадях «тягали копыци».
Жил Петька на Москаливке: со своей женой, сыном и невесткою-россиянкою. Его российский выговор, не смогла покоробить даже агрессивная среда употребляемого в этой местности суржика, который давно уже доедал его украинского собрата. Чтоб закончить Петькин портрет, надо обязательно упомнить старые запыленные кирзовые сапоги, которых он никогда не снимал; невзрачный пиджачишко за шестнадцать рубликов купленный в местном сельпо, в котором, он, на 9 мая, неизменно торчал под сельским обелиском, в когорте таких же ветеранов, одетых в сохранившиеся военные френчи. Его медали, мне, почему-то, не запомнились.
За чаркой горилки, он поведал мне, следующее:
– …У «Фердинанда» дуло, – указывал он узловатым пальцем, на стоящее у двери ведро, – как, вон енто, ведро. Девяносто два миллиметра! Что ты? Это – сила!..
Мне вспоминалось, как Петька, встретив нас, школяров, по дороге домой, потешал нас своими, похабными прибаутками:
« – Мальчик, мальчик, засунул в …опу пальчик, и вытянул оттуда г…на четыре пуда! ».
Мы угорали со смеху. Дядька казался нам чудаковатым. О педофилии тогда не принято было говорить. В сельской бане, еще, мылись все скопом; мужики могли рассматривать детей, ничем не рискуя.
Вечером я отправился на берег залива, над которым возвышалась давно уже не работающая сельская баня, которую обживали летучие мыши. Выбрав лодку, стоявшую на привязи, напротив обросшего лозами Островка, я глядел на давно уже выросшие сосны, ставшие стеной на том берегу залива. Сам небольшой заливчик, отделенный протокой от Сейма, и зарос кувшинками. Сюда, с окрестных лугов, под защиту крайних хат, весь вечер прибывали табуны гусей. Выходя из воды, они хлопотно отряхивались, взмахивая крыльями и, с гоготом, устраивались на ночлег.
На небольшом плесе появились на лодке рыбаки; они, с лодки, обложили средину заливчика «кидальной» сетью, и принялись «бовтом» или «хрокалом», – деревянным приспособлением, создающим громкий звук и пузыри воздуха в толще воды, – загонять в сеть, рыбу. Так ловили их деды и прадеды, пока понаехавшие «электроудочники», заставили забыть их этот древний промысел. Рыбалка многим мужикам, здесь, была настоящим праздником; отдушиной в их беспросветной, колхозной, жизни. Рыбацкие компании не менялись годами.
В это время, на берегу появляется Егоршин. Я видел, как он спускается к берегу, и, побродив между табунами гусей, стал приставать к рыбакам.
– Иван Якович, – обратился он к дядьке Лукавенко, сидящего на веслах, – ты не бачив моих гусей?
– А, Петька! Отстань ти iз своiми гусями, – огрызнулся тот в ответ. – Бачиш, тут люди дiлом занiмаються! А ти зi своiми гусьми лiзеш! Не бачив!
Получив неприятный ответ, Егоршин виновато потоптался на месте, но, тут же, обнаружив меня, сидящего на лодках, отправился в мою сторону. Подойдя поближе к привязи, он застыл на месте, всматриваясь в протоку. Он был похож на пограничника в дозоре, какими их рисовали в книжках, выпущенных в сталинское время. Не хватало лишь сторожевой овчарки.
Не обнаружив ничего интересного для себя на протоке, он приблизился ко мне:
– У тебя нет закурить?
– Есть, – говорю, – добирайтесь…
Стуча о борта соседней лодке кирзовыми сапожищами, он подобрался ко мне, вплотную. Получив от меня сигарету, он отломал фильтр, и начал долго разминать ее перед употреблением. Это была болгарская сигарета «Ту – 134». Он, похоже, привык курить только, привычную, «Приму», которую курили местные мужики. В зареве зажженной спички, я увидел уродливый шрам на тыльной стороне его ладони.
– Война?
– Война. – Выдохнул он, вместе с дымом.
После этого короткого, заключившего в себе весь драматизм целой эпохи, слове, он надолго умолк, словно собираясь со своими мыслями. Я понял эту, повисшую, паузу. Мне сразу же почему-то стало понятным его желание, кому-то излить все то, что у него наболело на душе, – и стал, смиренно, ждать длинного рассказа о войне:
– В 37-м году я окончил землеустроительный техникум в городе Ельце. После чего меня призвали в Красную Армию. Направили в военное училище, где я учился на наводчика танка… – Начал, Петька.
Война, усилиями наиболее обделенных успехами в Первой мировой войне, стран, постучала в ворота Европы, своею костлявою рукою смерти. Сталин уже давно в своих училищах и на военных заводах обучал немецких военных специалистов современному ведению войны. Они проходили в Советском Союзе необходимые для обучения сборы; присутствовали на всех полевых учениях. По Версальскому договору Германии в одиночку практически невозможно было возродить свой милитаристский потенциал. Сталин хотел использовать выращенного из гомункула национал-социалистической партии Германии, фюрера, в будущей войне как агрессивного провокатора, поэтому не жалел для него стратегического сырья. Советский Союз помогал Гитлеру в строительстве военной мощи Третьего Рейха. С началом мировой войны, оба хищники, скрытно, готовились к смертельной схватке между собою за мировое господство. Подготовившись, они тут же вцепились в горло друг другу, стальными клещами панцирных дивизий.
Егоршин рассказывал: как они должны были наступать на город Перемышль. Этот польский город, населённый украинцами, был в советской зоне оккупации, по заключенному накануне Второй мировой войны пакту Молотова-Риббентропа; оказался захваченным немцами в считанные часы после начала войны. Чтоб отбить его назад, сталинские стратеги бросились в наступление уже на третьи сутки; по дорогам двигались нескончаемым потоком сталинские войска. Пехота сидящая в кузовах полуторок. Танки…
На башне одного из них, ехал в Европу, старший сержант Петр Егоршин.
« – Я сижу на танке. Вижу у стены ржи, гору блестящих консервных банок, – вспоминает Егоршин. – « Я, докладываю об этом, командиру…».
Скоро, по его словам, с ближайшего леска, их атаковал немецкий десант. 1200 человек. Они пошли в контратаку…
Взрыв! Егоршина – контузило. Осколок разорвал ему правый бок. Вспоминая этот первый бой, Егоршин долго благодарил своего земляка из Смоленской области. Который на плечах, вынес его, окровавленного, с поля боя. Он доставил его до ближайшего медсанбата. (Они переписывались с ним и после войны).
«– После госпиталя, меня, – продолжает свой рассказ, Егоршин, – зачислили в танковый экипаж башенным стрелком, и бросили в бой. Это случилось уже в 43-м году, под Харьковом…».
Шла лобовая, танковая атака. Егоршин – в головном танке. Впереди только «тигры» и «фердинанды». За ними – цепь вражеской пехоты. Болванка угодила в боковую броню. Командир, младший лейтенант Акопян, закричал: «– Горим! Покинуть машину! » – И, сам полез в боковой люк…
Выбравшись из пылающего танка через верхний люк, Егоршину открылась картина настоящего ада. Она будет преследовать его всю оставшуюся жизнь. Дымят подбитые и горящие танки на поле боя. На броне танка – висят кишки командира Акопяна. У него – распорот осколком живот. Тело лейтенанта, безвольно лежит, возле гусениц. Он видит немца, который строчит с автомата. Пули тенькают по броне; они рикошетят и впиваясь ему в руку. Он теряет сознание, сползая с танка наземь…
На этом атака не захлебнулась в лужах крови, и его подобрали подоспевшие санитары… …В эшелоне, увозящем раненных подальше на восток, у Егоршина открылась старая рана в боку, полученная еще под Перемышлем. Эта рана не будет давать ему покоя всю дорогу. Это от нее, он в бреду кричал всю дорогу: «– Наводка 90 градусов! Огонь по наступающему врагу!».
Долго стояли на станции Арысь, что: под Ташкентом. Запомнилось, хорошо. После этого, их повезли в горы, а ж за Алма-Ату, где содержали немецких кобылиц, молоком которых там и выхаживали тяжело раненных бойцов. При приеме в госпиталь, начальник велел санитарам, чтоб те подносили каждому раненому бойцу большую кружку кобыльего молока. Многие, почему-то, отказывались пить кумыс. Но Егоршин выпил, – и еще попросил повторить лечебную процедуру.
«– Посмотрите на этого богатыря! – Сказал, улыбаясь, начальник госпиталя. – Этот боец обязательно выздоровеет! Попомните мои слова!»
Как в воду глядел. После госпиталя, Егоршин, некоторое время, готовил молодое пополнение под славным городом Тула. Снова открылась злополучная рана в правом боку. Оттуда он снова попадает в военный госпиталь…
«– Не выживешь ты, брат, Егоршин! – Сказал ему доктор, выписывая с госпиталя. – Ищи себе для жизни местность, которая бы не очень пострадала от войны. Чтоб молоко обязательно было с коровы, и хорошая баба! Только это тебя и сможет спасти! »
«– Да где ж я такую местность найду? Я – сирота. Мою деревню немцы сожгли. Нету для меня такого места! » – Взмолился, Егоршин.
Доктор пожал плечами, переводя взгляд на сидевшего на выписке полковника. Тот, до этого времени, молчал.
«– Знаю я такое место! – Обозвался полковник. – Вижу, Егоршин, парень ты мировой! Едем со мной, – не пожалеешь…».
Так Егоршин попадает в послевоенный Конотоп. Это было время массового переселения неприкаянных россиян в Украину. Полковник отвел Егоршина в райисполком. Там как раз заправляла всеми делами боевая, властная женщина. Полковник переговорил с нею с глазу на глаз, а потом позвал в ее кабинет Егоршина.
«– Вот, – этого парня, я рекомендую, – говорит этой женщине полковник: – Это старший сержант, гвардеец, танкист. Он хочет здесь жить и работать. Можно подыскать ему такое место, которое не сильно пострадало от войны?.. »
«– Такие люди мне сейчас позарез нужны, – ответила женщина. – Отправлю я его, сейчас же, руководить целым колхозом…»
«– Не могу я руководить, – сказал Егоршин. – Я, – сильно контуженный. Мне сейчас руководителем быть никак нельзя. У меня чуть что, я перенервничаю, открываются раны. До войны, я окончил землеустроительный техникум. Поставьте меня, если можно, простым землеустроителем…».
“ – Ладно, – сказал председатель Райисполкома. – Очень жаль. Обычно, все хотят пребывать на командирских должностях”.
Так Егоршин устроился землеустроителем на три присеймовских села. Женился. Стало поправляться здоровье. Стал кандидатом в члены кпсс…
В 48-м году в управление колхоза приходит строгая директива. Председатель колхоза Лебедь срочно собирает весь партийный актив села.
«– Надо, – говорит, – срочно собрать урожай! Пришла директива…».
«– Нельзя этого делать! – Озабоченно, воспротивился Егоршин: – Зерно еще молочной спелости! Оно лежать долго не будет. Покоробит его солнце…».
После этих слов, в конторе, наступила гробовая тишина.
«– А мы его еще в партию собрались принимать? – Слова парторга Сiрика прозвучали, как приговор тройки: – Не видержав ти iспитательного сроку, Егоршин. Твоi слова йдуть врозрiз з генеральною лiнiею комунiстiческоi партii! ».
«– Да, шо там з ним цацкаться? Гнать його треба в шию! – Сказал Лебiдь. – Шоб ноги его тут бiльше не було! Щоб на 50 метров до контори не пiдходив! ».
«– Ложи, Егоршин, на стiл свою карточку кандидата. – Сказал ему, парторг Сiрик. – Не нужний ти такий, нашiй коммунистической партii! И катись-ка ти, чоловiче, до чортовоi матерi. Або: на всi чотири сторони! »
После этих слов, ему ничего не оставалось делать, как достать из кармана гимнастерки свою карточку кандидата, и уйти, потупив глаза, из конторы…
«– Поставили меня дежурить на мосту», – продолжает Егоршин.
В самом начале октября месяца, их заставили вкопать перед мостом шлагбаум, чтоб по мосту не ездили грузовые машины. Мост рассчитан был только на три тонны. В тот же день он почему-то оказался дежурным на мосту. Хотя очередь была не его.
«– Стою, – говорит, поэтически вздохнув, Егоршин. – Тихо. Осенние звезды светят ярко…». – По его словам, проехала подвода запряженная коровой. В., с дочкою повезли домой лепеху, которой всю зиму будут кормить ее же, корову.
…И тут… от села… светят фары; подъезжает, с фанерной кабиной, ЗиС. В кабине сидит шофер, и заведующий Кролевецкой заготконторой. Едучи с Конотопа, они якобы завернули к своему другу, председателю, посидели там до полуночи, а потом, – чтоб не возвращаться назад в Конотоп 42 километра, – решили ехать напрямик, через деревянный мост. А, чтоб не сбились с пути истинного, – по версии Егоршина, – показывать дорогу им до моста, Лебедь послал какого-то своего верного холуя (Луговца), который присутствовал на посиделках. Того посадили в кузов, где уже находилось человек пять каких-то, проверенных, бойцов…
«– Можно проехать через мост?» – Спросил у Егоршина, заготовитель.
«– Да вы мне мост завалите, – отвечал ему Егоршин. – В вашей машине пять тонн веса, а мост рассчитан всего на три!».
«– Да ты я вижу, парень совсем не сговорчивый! – Повысил свой голос заготовитель. – А, ну-ка, ребятки, поймайте мне этого молодца! – Сказал он, заглядывая в кузов своей машины».
С кузова на землю, тут же, посыпались его люди. Егоршин, перепугавшись, стремглав бросился в кусты, в надежде берегом добраться до села…
«– Куда там! – Говорит Егоршин. – Это люди были военные, быстро раскусили мой маневр…».
Растянувшись длинной цепочкой на лугу, они быстро приперли его к реке, и, «взяв в плен», привели к своему начальнику». Тот стоял на мосту, переваливаясь с носков на пятки. Отечное лицо, наглые глаза. Усики, по тогдашней моде. Работая до этого лагерным вертухаем, привык к тому, что ему все подчинялись беспрекословно.
«– Тек-с, – начал распоряжаться судьбой Егоршина заготовитель, – свяжите-ка ему, братцы, руки, и киньте его в воду! ».
Но тут, – вдруг, – заупрямился шофер.
«– Если свяжете ему руки, – сказал он, – не повезу вас дальше! Что хотите со мной делайте!»
Трудно определить теперь, была ли эта история чистым розыгрышем? Я не жил в то время, но, судя по понятиям современных начальников и бандитов, это вполне похоже на интригу. Нравы, в тех местах, судя по всему, немногим изменились. Я сам попадал там, в бандитские 90 -е, в похожие обстоятельства. Для этого местный пахан, нанимал бандитов, которые стреляли дробью «как бы в шутку», – но холуи, от вседозволенности и безнаказанности, легко переходят всякие грани.
Как всегда, в подобные мгновения, время превращается у вечность. Заготовитель по-прежнему переваливался с носка на пятки, с интересом рассматривая плененного Егоршина. Он искал на его лице страх. Палачи любят наблюдать человеческий страх. Эти психопаты питаются энергетикой чистого страха, и, за этим, готовы отправиться за много километров. Охота на людей, в крови у советских (и постсоветских) начальников. Здесь: и лишняя порция адреналина в крови, и авторитет, и помощь «хорошему» «нужному» человеку. Который, в нужную минуту, выручит и его, когда представиться такая же возможность. Те, кто приехали вместе с заготовителем, не были, обязательно, на передовой. Это могли быть охранники лагерей. Которые убивали, получая от вида смерти, наслаждение.
Егоршина не связывали. А, вытащив его за ноги, на середину моста, бросили в ледяную купель…
– Течением меня затянуло под мост, – вспоминает Егоршин. – Я схватился за толстую поперечину, которой были скреплены все четыре пали забитые в дно, и вылез на нее… «– Вы от меня далеко не уедете! – Кричал Егоршин из-под моста. – Я номера, вашей машины, запомнив! »
Кричал, похоже, находясь в состоянии аффекта. Посовещавшись на берегу, преступная компания вернулись обратно. Похоже, что они чего-то испугались: и от шуток, решили перейти к делу. А поскольку Егоршин находился под мостом, где его не так-то просто было достать, – они, оторвав шлагбаум, начали заводить его одним концом под мост, чтоб сбить Егоршина с поперечины.
«– Но разве удержишь в руках такую тяжелую дубину? – Спрашивая, Егоршин взводит на меня замутненный грустью глаза, чтоб показать пережитый им ужас. – Она тут же вырвалась у них с рук, и поплыла мимо, – продолжает он, увидев мою реакцию: – Тогда они, срывая настил, начали ломать над моею головою, доски…
Егоршин все время кричал, находясь под мостом: «– Люююди-и-и! Спасииите-е-е! Помогииите-е-е! »
С луга, кто-то откликнулся. Объездчик! Объездчики, постоянно, сторожили луга от не очень сознательных колхозников.
«– Иду-у-у! » – Услышал Егоршин спасительный голос.
Только после этого, нападающие перестали отрывать доски, и бросились к машине. Через минуту она прогрохотала над головой Егоршина, обсыпая того пылью…
Объездчик помог Егоршину выбраться с воды. Для этого пришлось тому снова лезть в студеную воду, а потом со всех сил грести к берегу.
– Если б меня занесло под кручу, – говорит Егоршин, мне б оттуда никогда не выбраться. Там течение быстрое, а берега скользкие. Амба мне была б…
Объездчик помог разжечь Егоршину костер, чтоб тот хоть немного смог согреться, и обсушиться. Только после этого Егоршин отправился в село, к председателю Лебедю, доложить о происшествии на мосту. Кому же еще? Только у того телефон в конторе села.
А у того гулянка еще в полном разгаре. Председатель уже знает, что произошло. Его холуй, обо всем и доложил.
– Не стал помогать мне, – в голосе Егоршина прозвучала нотка не перегоревшей за полвека обиды, – а побежал докладывать председателю! Вот такие бывают люди! – Возмутительным тоном, говорит Егоршин.
«– Ти нiкому не розказував? » – Спросил Лебедь, пристально посмотрев, Егоршину в глаза.
«– Нет», – сказал Егоршин.
«– Тодi, й кажи нiкому. Мiй тобi совет. То очень хорошие люди були! Ось тобi стакан самогонки. Для сугреву. Да й дуй собi додому»! – По-отечески, советовал председатель. …Через месяц к Егоршину на мост явился все тот же шофер.
«– Ты, – спрашивает, – никому не рассказал о том, что с тобою произошло? »
«– Зачем же мне говорить о тебе, когда ты меня от смерти спас? » – Вопросом на вопрос, спрашивал Егоршин.
«– Тогда держи! » – Шофер подал ему две бутылки водки, и бумажный сверток, в котором, колечком, лежало полкилограмма колбасы.
– «Там мы доски на мосту поломали? » – Шофер полез в кузов. – «Держи! » – Крикнул он, выбрасывая перед остолбеневшим от свалившегося изобилия, Егоршином, две длинные, дубовые доски.
«– Я сделал из них деревянный диван, который стоит у меня до сих пор», – говорит мне потрясенный, до сих пор, Егоршин.
«Что такому надо, за унижение страхом? – задаю я сам себе тут же вопрос, на который существует уже фирменный ответ: – Полкило колбасы по 2. 20 и, естественно, водка. К этим символам советского изобилия, приучали и нас, тогдашних школьников. Егоршин, своим рассказом, помог мне заглянуть вглубь уходящего века. Кнут и пряник, – вот символы советской эпохи, – колбаса и страх!.. »
– Вон мои гуси плывут! – Этими словами Егоршин выводит меня из состояния грустных размышлений над судьбами людей. – Разве ты не видишь моих гусей? – Обращенный ко мне голос, требует живого участия. – Гусак белый, а четыре гусыни, серые!..
Я, натружено, всматриваюсь в разинутый зев сумеречного залива.
– Нет, – говорю, – ничего не вижу.
– Я их голоса слышу! – Уверенным тоном, говорит Егоршин. Его лицо облагораживает светлая радость.
Проходит несколько минут томительного ожидания, и, в пространстве пролива, возле Островка, показывается караван важно плывущих гусей. Впереди, белым пятном, проступает крупный гусь, как-то гармонично вписываясь в чернильные сумерки, надвигающейся на залив ночи…
1996 (2017)
Свадебный поезд
Предисловие
Словно в насмешку за какие-то запамятованные давно прегрешения – сама судьба направила меня в бессрочную ссылку, в одно захудалое село. С поэтами-бунтарями подобным образом поступали всегда. Пушкина – в Михайловское, Бродского – в архангельскую деревню за тунеядство…
Это только во Франции поэты рождаются в провинции, чтоб потом умереть в Париже. На моей дороге случилось село под поэтическим названием – Хижки, в Конотопском районе, в Сумской области. О Киеве, тогда, я мог только мечтать, находясь в нем.
О этом месте, можно было подумать, как о божьем даре: для прохождения литературной линьки. Стояла во весь рост лишь проблема элементарного выживания. И еще, престарелая мать, которая по причине многих своих хронических болячек, оставаясь по сути дела, никому не нужной; уже давно затравленной собственной сестрой.
За матерью пришлось ухаживать, как за неизлечимо больным человеком (дело было даже не в старости).
Поэтому работу радиотелефониста, на первых порах, я считал «сущим подарком, ниспосланным мне высшими силами, как производственное орудие, необходимое для добывания хлеба насущного». Обихаживая обширный клочок земли, я нарабатывал необходимые навыки в выращивании урожаев. Этих знаний мне хватило, чтоб с одной сотки кормиться не один год; даже в Киеве. Исключая, конечно, картошку, которую приходилось прикупать.
Скоро в меня появились в селе обширные грядки клубники, которые обеспечивали весьма приличным заработком. В сочетании с материной пенсией, я устроился довольно-таки неплохо в эти смутные, 90-е, годы.
Бывшая колониальная агентура, всегда работающая на Кремль, не сразу пришла в себя после планетарного развала Советского Союза. Очень медленно восстанавливалась агентурная сеть, по мере разворовывания адептами колониального владычества Москвы, всего того, что еще оставалось от «социалистической экономики»; как плата тем, кто готовил Украину для нового порабощения.
Проекты поэтапного объединение в новый «союз», сработают в их головах уже в начале следующего столетия, когда вся эта братия, приходит в себя от дикого шока, вызванного начальным периодом. До этого, они призваны были поддерживать жизнь в определенных структурах.
В это время, я мог спокойно заниматься своими хозяйственными и литературными делами.
Агентуру возглавлял Бардак. Можно представить себе в виде такого себе породистого альфа-самца, морда-лица которого светилась свежими наростами жира; имеющего двойной подбородок и набухший живот, словно у классического кулака-держиморды. Узнаваемый тип украинского хохла, который верой и правдой служит поработителям за малую долю: пользоваться неограниченной властью. Этот некоронованный король, лишенный всякой совести, руководил избранными холуями. К подобным психопатическим типам больше подходит мерзко звучащее слово «пахан», которое произвела на белый свет сталинская система для использования его в закрытых пенитенциарных заведениях. Как по тюрьмам, – так и в колхозах, – существовала подобная, рабская, система организации труда.
Посему, я буду принципиально употреблять для символических обособлений подобных Бардаку социальных типов – этот сугубо тюремный термин, обозначающий роль главенствующего тела в определенной среде.
Судьба, естественно, определила автора под его неусыпное наблюдение. Этими делами занимались его людишки, имеющиеся в каждой сельской щели. Это были – его глаза и уши, которые никогда не прятались. Мерзко осознавать, что за тобой ведется постоянное наблюдение. Эта мышиная возня создавала видимость ему основной работы; затем поддерживалось доносительство.
Я выучил всех сельских стукачей, услугами которых, активно пользовался местный пахан. Их очень много; практически каждый фуфаечник, мог выдать конспирологическую версию на основании даже случайно мною обронённого слова. Это служило основанием для строительства каких-то оперативных планов и действий. Пахан обладал всеми данными на случай развития ситуации в том или ином русле. Естественно, он знал, кто, как и чем дышит на его территории, и мог дать любому исчерпывающую характеристику. Все, последовавшие за моим прибытием, события в этом селе, разворачивались на фоне тотальной разрухи привычной среды обитания колхозных трутней.
Вследствие неизбежного коллапса колхозной системы, навевался жуткий страх неверия, в устойчивость всей украинской государственности. Испугавшись ельцинской России, в свое время, колхозникам дали, в едином порыве, проголосовать за исторический акт, подтверждающий независимость страны. Но, увидев какие могут быть исторические последствия, после того, как все устаканилось, – и, в первую очередь, в России, – вот тут-то им и довели до сведения: как они опростоволосились, пойдя на поводу у мнимых националистов. Пытаясь как-то наладить обратный отсчет исторического времени, они взяли курс на реинкарнацию московской империи в Украине.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/book/aleksandr-pyshnenko/napishi-mne-o-galchonke-zapisi-na-zheleznodorozhnyh-b-70965871/) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Александр Пышненко
Собрание небольших рассказов написанных автором в разные годы, далее срез всей его жизни. Во время многих путешествий по странам и континентам. Это еще и большой, временной, отрезок, – в который вместилась настоящая смена эпох. Эта книга – взгляд автора на многие процессы, происходившие в СССР, и странах, образовавшихся после его распада. Автор надеется, что она понравится его читателям.
Александр Пышненко
Напиши мне о галчонке. Записи на железнодорожных билетах
I
Напиши мне о галчонке
– Не обижайся на меня, пожалуйста. Я заметила, что ты обидчивый человек. Не обижайся. Я, хорошая девочка. Не хочу, чтоб мы потеряли друг друга. Это так просто бывает. – Она смотрела на него одним из тех длинных, любящих взглядов, которые много значат в жизни мужчин и женщин познавших друг друга, когда они много времени проводят вместе, и между ними налажены прочные отношения, с глубинными взаимопроникновениями, – то есть: живут общими делами, как и подобает молодым людям, у которых налажена сексуальная жизнь, когда уже появились совместные мечты о совместном будущем в пределах некоего романтического смысла.
Здесь, на Подкаменной Тунгуске, их сближали совместные маршруты. Они изучали долеритовые выходы по всей реке, на предмет залежей полезных ископаемых. Сливной магнетитовой руды. Железняка. Методов их поиски и разведки. Изучали, в основном, магнетизм выходивших на поверхность пород. Направление магнитных полей. Их увлекала совместная работа; совместное проведение времени. Которого у них было много. И, еще: целое лето впереди.
– Ты никогда не обидишься на меня? – Она спросила снова про обиду, и внимательно посмотрела в засасывающую магнетическую серо-желто-буро-синюю бездну его глаз, словно внедряя в нее чарующие флюиды своими зелеными глазами. В этом затягующем у себя фосфорическом космосе глаз; ей хотелось уяснить что-то главное, что определит глубинную его сущность, от которой веет каким-то неземным холодом, что приманивает так же, если б смотреть на звездное небо с земли; с этим взглядом, у нее появляется шанс окунуться в глубину его сущности одним лишь взглядом, чтоб попытаться постичь его глубину, как доступно это всякой женщине, – в этом бесконечном внутреннем, океаническом пространстве, открывалась обволакивающая, очаровывающая бездна, в которой можно растворится навсегда своей судьбой; и слушать бесконечную, внеземную мелодию, которая бы подтверждала привязанность к ней; ибо слова любви, уже были высказанные ими не в один раз, и будут выглядеть в этом пространстве затасканно-механическими звуками, сильно отдающими фальшью; потому, что они растеряли свои чарующие флюиды; эти слова уже были исчерпаны ими при иных обстоятельствах ибо касались иных судеб, и повторять многие ошибки, они были не намерены, не имели права по отношению друг к другу.
Им обоим, было по 25 лет, они оба взрослые, и еще совсем юные, знающие, чего они хотят и ищут в этой жизни, как и в своей, интересной работе. Они знали, что их нынешнее призвание – искать полезную руду. В прошлом у них остались те, кому они выговаривали все механические слова о своей любви, и разочаровались в этом. Они об том забывали, находясь вместе.
Здесь, в тайге, – «в глубине сибирских руд», – среди чарующей природы, получив полную свободу, они обрели новую возможность прочувствовать всю полноту человеческих отношений, испытав друг на друге все свои мечты о любовных приключениях. Они жили, как первобытные люди; в то же время, имея все, что уже наработало человечество (пусть и в специфическом, советском варианте его развития). За еду им не надо было беспокоиться: в мешках лежали, в необходимом количестве, банки тушенки и сгущенки. В реке водилось уйма рыб; он мог их таскать к костру килограммами. В виде украшения стола, можно было даже испечь тот же торт «Наполеон» – с блинов и сгущенки, украшенных ягодами кислиц. К их нарядам, у медведей не было никаких претензий – одевались в ветровки, с ромбом «Мингео», на рукаве; в болотные сапоги. Другая обувь, просто не справлялась бы с болотиной. Лодки, моторы и услуги опытного охотника-проводника, нанятого экспедицией, им хватало для глубокого проникновения в таёжную глубь.
Они были красивы; под стать своим романтическим отношениям. Близость у них произошла сразу же, как только они оказались наедине, – в маршруте, – длинной в один день. Вышло как бы само по себе, чтоб ничто уже не мешало их дальнейшей, совместной, работе.
На первый выходной, они попросили Анисима, отвезти их поближе к устью речки Майгунгда, чтоб порыбачить. Он перевез их на противоположный берег, сославшись на некоторые дела. Остальной путь – в километр – они прошли по берегу.
Усевшись на камни возле бурной речушки; болтали вроде не о чем. Слова, словно кирпичики, складывались в основу их дальнейших взаимоотношений.
– С какой стати, я должен обижаться. Да и слово, это, с лексикона бичей, я его не приемлю. Оно имеет, в их среде, негативную коннотацию. – Сказал он.
– Ты – обиделся? Я знаю, что ты обиделся. – Сказала она.
– Ты играешься с этим словом? – Спросил он.
– Олежа, мы с тобой должны быть, как одно целое. Понимаешь? Я хочу, чтоб это было так. И никак, по-другому. Я ищу признаки гармонии. – Сказала, она.
– С этим не поспоришь, Аня. Мы с тобою живем вместе, как одно целое. Отбрось ложный стыд, и спрашивай прямо, что ты хочешь от меня? – Спросил он.
– Я читала твой дневник, Олежа. – Сказала она, проникая в его взгляд, словно пытаясь предугадать реакцию.
Он умолк.
– Когда ты уходишь на рыбалку. Я всегда читаю твой дневник. Мне интересно. Ты хорошо пишешь. Тебе не хватает только диплома. Я знаю, о чем говорю. Как женщина. Не спорь со мной. Ты должен поступить в институт. Тебе нужны лишь «корочки», чтоб воспринимали каков ты есть на самом деле. – Убежденно, сказала Аня.
– А без этого – никак? – Олег улыбнулся.
– Никак. – Словно передразнив его, сказала Аня.
– Это же смешно, когда человека принимают только за «корочки». – Сказал Олег.
– Без бумажки ты букашка, а с бумажкой – человек! – Сказала, Аня.
– И так: всегда! – Олег засмеялся.
– И никак по-иному у нас. – Сказала Аня.
– Ты – хорошая! Лучше всех! – Повысив голос, сказал Олег, словно пытался докричаться до медведей.
– Ты всегда начинаешь насмехаться над очень серьезными вещами. С такими вещами у нас не шутят. – Серьезно, сказала Аня.
– Я знаю. – Сказал Олег, уже примирительным тоном.
– Вот и хорошо, что ты это знаешь. – Сказала Аня.
– В нашей стране, для таких как я, места все заняты. Остались только в тайге. Чтоб не плакать, я научился смеяться. Иначе жизнь может превратиться, во что-то, весьма, ужасное. Не хочется превращать ее в трагедию. Поэтому я отправился в тайгу. – Сделав грустную мину на красивом лице, сказал Олег.
– Превращая ее в комедию, так что ли? – Спросила она.
– Скорее – в хохму. – Ответил он.
– Тогда: не лишай меня удовольствия научить тебя уму разуму. Я стану твоим педагогом – и доведу до ума. Это станет моей звездной мечтой. Я нашла человека, с которого может получится то, о чем я всегда мечтала. Сильного, упорного и неотесанного. Чтоб сделать из него того, кого хочет видеть женщина в своем мужчине. Ты, прекрасная заготовка, но своей шероховатостями в характере, ты держишь меня на расстоянии. Идет какое-то сопротивление? Смех, насмешки над собой, – это такая защита? – Спрашивала она.
– Наоборот, это: помощь тебе. Чтоб тебе не так было скучно в тайге обрабатывать целлюлозу. Когда мы остаемся одни. – Отвечал Олег.
– Можно посмеяться? – Спросила Аня, и улыбнулась.
– Сколько угодно. У меня еще есть. – Сказал Олег.
Насыщенные смыслом разговоры, происходили довольно часто между ними. Сейчас, от леса, их отделяло метров 30 пространства, затапливаемого во время паводков. Впереди несла свои воды широкая, неспокойная шивера; посредине реки, словно частокол – торчали камни, будто зубы дракона. Они смотрели на шиверу; на тайгу. На время замолчали, чтоб в повисшую паузу ворвались бурлящие звуки стремительной Майгунгды. Им было так хорошо находиться вдвоем, среди подглядывающих за ними из-за камней: таёжных орхидей, козлятников, иван-чая и кровохлебок. Это был, чуть ли не единственный выходной, за последний месяц непрестанной работы и они не спешили потратить его на рыбалку. Здесь, они ощущали себя на свободе. Вдалеке от геологического лагеря. Могли наслаждаться общением.
– Я обязательно сделаю, как ты хочешь. Я поступлю в этот институт, как ты хочешь. Ради этих «корочек», я стану жить, – хотя ума не прибавится, знаю точно. – Сказал Олег, прервав затянувшуюся паузу, прежде чем заглянуть Ане глаза.
– Я очень рада за такие мысли. – Сказала она.
– Вот доберемся до Красноярска. Останется лишь привести в порядок то, что у меня есть. Перепечатать на машинке. Я и сам иногда думал так поступать. Только вот работа не позволяет мне это сделать. Времени нет. Надо зарабатывать деньги. Да и вкладыш к диплому, мне почему-то не выдали, очевидно, кто-то, попытался мне навредить. Не впопыхах же забыли вложить. – Сказал он.
– Это плохо. Если кто-то заинтересован в этом. – Сказала она.
– Ты ничего не делал против власти? – Спросила она, после небольшой паузы. В ее взгляде, промелькнул страх.
– Я не воюю с планетами, государствами и их властями. – Ответил он.
– А то, страшновато как-то сделалось. – Сказала она.
– Значит, понравились мои рассказы? – Спросил он.
– У нас на Бахте был галчонок. Мы его выходили. Он остался без своей мамы и папы. Сирота, одним словом. Вначале, был такой смирненький. Мы его начали учить жизни. Получив образование у нас, к концу сезона – он обнаглел, страшно. Представляешь? По утрам начал будить нас, чтоб накормили его. Он садился попкой на конек палатки, и спускался вниз. Вещи металлические тырил. Мы нашли его заначку. Чего там только не было? От заколок, до металлических рублей! Напиши о галчонке, – а, потом, когда ты уйдешь на рыбалку за своими хариусами, я буду читать. Пиши это, словно для меня. – Попросила она.
– Я напишу тебе о галчонке, во время дождя, и уйду на рыбалку. Читая, ты подумаешь обо мне, как я там ловлю хариусов. – Сказал он.
– Ты любишь музыку?
– Органную.
– Когда вернемся в Красноярск – я отведу тебя в Органный зал. Ты любишь Баха? – Снова, спросила она.
– Я очень люблю Баха. – Отвечал он: – Это входит в мое самовоспитание, как обязательный пункт культурного совершенствования. Еще, я даже заставлял себя смотреть, вживую, балет. На «Лебединое озеро» ходил, хотел посмотреть на: «Танец маленьких лебедей». Так же это красиво, как по телевизору? Потом, еще несколько раз выдержал. Но уже с меньшим энтузиазмом.
– Я займусь тобою. В Красноярске мы продолжим твое совершенствование. – Сказала она.
– Всегда к твоим услугам. – Сказал он.
Они сидели обнявшись, забыв обо всем на свете. Мимо них под той стороной проплывала самоходная баржа. Из рубки неслась на всю шиверу: «Синьорита я влюблен…».
Анисим подошел неслышно.
– Андреевна зовет. – Сказал Анисим, застыв за их спинами. Они обернулись. Анисим улыбнулся, переминаясь с ноги на ногу. Он был большой и сложный, пятидесяти пяти летний мужик; с большим, рыхлым носом, на котором чернели точки угрей.
…Осенью они вернулись в Красноярск. Временами они встречались. Ходили в рестораны. Органный зал оказался закрыт на ремонт. Аня настаивала на его учебе. Он сделал запрос; но, так и не дождавшись сносного ответа, неожиданно для самого себя, укатил с первой же попавшейся экспедицией в Туву. Такое с ним случалось часто. Очередное, авантюрное решение, которое связано с накоплением денежных знаков.
…И впечатлений: от жизни бок о бок с бичами, что и превращалось для него в замечательную литературную практику, в придачу к обычному вояжу (настоящая учеба). Они перебрасывались письмами; еще не понимая, что это есть – последние штрихи в их отношениях.
27/01/2021
Канава
(Отрывок с романа “Романтик”)
1. Этот скучный город – Новосибирск
Храмова приняли на работу в Центральную партию – базирующуюся при управлении Березовской экспедиции, – в том самом сером и массивном здании, вальяжно расположившемся в самом центре Новосибирска, построенном еще в те далекие времена, когда этот город, олицетворял собою, всю мощь и лоск царской России на необъятных просторах Сибири. В те давние времена, город носил гордое и имперское название – Новониколаевск.
Храмову предоставили койко-место в обычной двухкомнатной квартире, типичной пятиэтажной и кирпичной «хрущевки», что возвышается на улице Нижегородской, на районе «Восход», что в близости от Коммунального моста, соединяющего оба берега многоводной Оби.
Храмова, со времени поселения, окружала скука и угрюмость, впавшего в спячку, зимнего города. Отправляясь, всякий раз на работу в центр города, Храмов отмечал про себя лишь виднеющийся отовсюду белый купол Оперного театра, словно бы парящий над серостью невзрачных городских кварталов. Торопливо пробегая по аллеям Центрального парка, мимо резво прыгающих по дорожкам, практически ручных белок, Храмов всякий раз встречал бронзового Ильича, возглавляющего пять монстроподобных изваяний олицетворяющих собою какую-то связь эпох (получившие в горожан, меткое название «труппа товарищей»).
…Ближе к весне, к началу нового сезона, Храмова начали направлять на загородную базу экспедиции, – где, под руководством опытного геофизика Бориса Б., – из отряда Артюхова, – он стал подготавливать старенький спектрометр к предстоящим полевым работам. Создавал формулы расчетов процентного содержания радиоактивных элементов в породах, для полученного на складе спектрометра.
2. Петров и Пальчиков
Весна застала Храмова (числящегося в отряде Федорова) «в аренде», в группе Татаринова, которая отправлялась работать на Алтай. Алтай – это тюрко-монгольское название. Оно происходит от слова – „золото". Разработки золота здесь, известно, самые древние в Центральной Азии.
…7 мая, геологи разбили свой лагерь, на речушке Урап…
А, уже через пару недель, во главе двух бичей (так принято было за глаза называть рабочих в этой среде), – Петрова и Пальчикова, – Храмова отправили отрабатывать радиоактивную аномалию в районе деревни Пыхтарь.
Передислокацию проводили на военном «Газ-66», на расстояние – около сотни километров, вглубь территории равнинной части Алтая. До районного городка Залесово, они добрались еще по такой-сякой плохо заасфальтированной дороге, а дальше, – в царстве молодых осинников, – двигались, исключительно «по направлениям» (грязное, колдобистое месиво, трудно было определить, даже, как «ухабистый проселок»). На пути их следования часто возникали какие-то совершенно заброшенные деревни-призраки, заросшие дворы и заколоченные ставни в избах.
За всю дорогу, Храмов не проронил не единого слова. Попутчики – тоже сидели, задумавшись, словно воды в рот набрав.
Татаринов – опытный специалист в этом деле, – из всей пестрой компании бичей, явившейся с ним на Алтай, отобрал в многодневный маршрут, именно этих двоих. Они должны были заполнить графу в его годовом отчете «выемка грунта». Иными словами, средь специалистов, этот процесс, имел название: «Сделать план по канавам». Две недели, Татаринов внимательно наблюдал за своим пополнением; заставлял рабочих бурить тупым буром дырки в земле. Эта, «боевая» связка, безропотно прошла все этапы изнурительных испытаний.
Мрачноватый Петров, оказался на редкость степенным и рассудительным мужиком, на которого во всем можно было положиться. Петров обладал, – говоря сухим языком официальных характеристик, – определенной социальной устойчивостью (имел в Новосибирске семью). В поведение Петрова были заложены сугубо обывательские инстинкты, которые всячески укоренялись и укреплялись. Советская власть искала в таких людях себе, надежную социальную опору. Упор делался на семейный уклад и покупку дорогих вещей.
В его напарника не было весомой «социальной устойчивости». У только что отбывшего тюремный срок, за грехи непоседливой молодости, Пальчикова, – была справка об освобождении из мест заключения, большая стриженая голова на плечах, да слетающая с губ, иногда, лагерная бравада.
Для молодого Храмова, – записывающего в ежедневник, – оба кадра, были людьми с «обывательского измерения». Они были далеки от выдуманного мира Храмова, населенного выдающимися личностями, среди которых тому мечталось занять свое законное место. Возвышенное восприятие окружающего мира, для молодого романтика, – это тот социальный грунт, на котором развиваются максималисты. Многое в характере этого парня выглядело еще угловатым и несовершенным. Ученые обозначили это термином: инфантилизм. Покудова в человеке закладывался прочный фундамент, – это, вполне, допустимая вещь. Субстанция должна состоять из эластичных материалов в этот период, чтобы могла вместить в себя как можно больше опыта (в закостеневшее пространство – меньше влезает). Характеру Храмова, в определенной мере, была присуща большая впечатлительность и непредсказуемость, в лучших смысловых гранях присущих его духовности, позволяющих непосредственно наблюдать и провоцировать других вокруг себя на граничные поступки. В нем еще присутствовала та птенцовая неоперённость, выраженная некоторой мнительностью, что всегда мешало ему воспринимать окружение, таким, каким оно есть на самом деле. Он, постоянно, вынужден был преодолевать собственную робость. Все эти составляющие его бесспорно сильной в будущем личности, в совокупности, ограничивали силу этого человека; больше чем надо заставляли его, казалось бы, без серьезного повода, задумываться, формируя мысленный аппарат. Образованностью, в эту пору развития, «руководит» впечатлительность. К этому надо добавить недюжинную волю, природный ум и физическую силу, которые помогли выживать этому сильному характеру, еще не полностью закаленному в житейских бурях и невзгодах; определить свои духовные принципы.
Сколько же надо будет преодолеть преград, чтоб закостенел внутренний стержень, на котором должна держаться духовность индивидуума Постепенно, слабые звенья, заменяться прочными. Острые углы в характере, отшлифуются; засверкают яркими талантами, когда появится необходимый опыт. Память заимеет образцы для подражания, сформирует идеал – программу жизненного успеха.
Храмов назначил своей жизни большую цену, и никому не позволял фривольно поступать с ним. Он, словно бы, хранил эту свою восприимчивую для глубоких познаний аморфность в своеобразном жестком панцире, который невозможно было пробить извне, но которая постепенно твердела в нем.
…Рабочие, впрочем, тоже замечали, что Храмов – «не от мира сего»…
Храмов, потом, отмечал в своем дневнике, что лицо у Петрова необычайно грубое, словно бы вырубленное топором, на котором полностью отсутствуют плавные линии. Туловище – кряжистое; крепкое. Тогда, как Пальчиков, был словно сплетен из разных плавных линий. Здесь природа явно старалось, и, по-своему, видно, не скупилась даже на некоторое изящество.
Являясь в геологию, представители этой популяции рода человеческого, как правило, имели при себе только справку с мест не столь отдаленных от города Магадана. (Известны многие случаи, когда в отделы кадров геологических предприятий являлись кадры вообще без оной). Появление подобных типажей, – искателей всевозможных приключений, – авантюристов, – в любом геологическом отряде – было вполне заурядное явление (часто нигде не зафиксированное на бумаге), где они, должны были сделать определенную работу, и исчезнуть из поля зрения навсегда. Они были подобны – перелетным птицам.
Многие бичи находили в этом основу своего существования. Стоило кому-то из них заявить о себе, как о добросовестном работнике, как тут же, за ним, начинали охоту начальники отрядов.
Опытный канавщик достаточно высоко ценился в той среде. С его мнением, считалось даже начальство. Ведь, набирая к себе в отряд новых бичей, для начальника всегда существовал определенный риск.
В полевых условиях, для этого контингента, появляется новая возможность переступать существующий уголовный закон, чтоб оказаться снова в своей тарелке, за суровой тюремной решеткой, где их всегда ожидает привычный распорядок дня, баня по субботам и работа на лесоповале, в тесной компании с лагерной охраной.
Похоже, что для избавления от потенциальных преступников в городах, пенитенциарная система страны, закрепила за геологией, статус отстойника. В любой геологической конторе такие типы, носящие вирус неприкрытой угрозы для состояния общественной морали, немедленно получали кров над головой, деньги на выпивку и кусок хлеба.
Вернувшийся из мест не столь отдаленных от Магадана, человек, уже в статусе бича, мог рассчитывать на койко-место где-нибудь на загородной базе геологов, устроиться работать кочегаром, или, на худой конец, дворником.
Лучшие из худших особей человеческой популяции, связывали с геологией, навсегда, свои исковерканные судьбы. Судимости, в геологии, не имели особого значения. Люди, попиравшие в свое время законы, развивались и резвились под ее эгидой, внося посильную лепту в общий результат, вплоть до того, что становились достаточно умелыми операторами, которым доверяли работу со сложной геофизической аппаратурой.
Глядя на все эти противоречия, заложенные самой матушкой-природой в его невольных попутчиках – Храмов, мысленно, умилялся своей наблюдательностью. «Это ж надо было, так судьбе перетасовать замусоленную колоду человеческих судеб, – подумал он, – чтоб из бесконечного количества вариантов, собрать, внешне такую не похожую друг на друга компанию. Скорее, все же, это заслуга, того же, Татаринова… ».
В момент приезда в деревеньку, Храмов сносно ориентировался в том, с чем ему предстоит столкнуться в самые ближайшие дни. Оказавшись в одной упряжке, люди, привычно, вынуждены будут тянуть общую лямку.
3. Татаринов
Появившуюся в этих местах экспедицию, встречала дюжина почерневших от времени изб. Меланхолически взирая на окружающий мир своими высокими окнами, они в чем-то напоминали обреченно бредущих вдоль склона пилигримов «бог весть, с какой далекой стороны».
В целом, эти покрытые деревянными плашками избы, олицетворяли собою, так люб любому поэту, литературный ХIХ век. Дорога, соскользнув из склона, отправляла путников на каменистый берег Татарки, над которой был переброшен живописный мостик, сложенный из неотесанных, березовых бревен.
Приказав Храмову налаживать спектрометр, Татаринов скрылся в крайней избе. Рабочие, в это время, принялись выбрасывать из кузова свои причиндалы.
Вернувшись из переговоров, Татаринов сделал несколько коротких распоряжений, после чего, взяв настроенный радиометр, полез в яму. Найдя там пик аномалии, он велел Храмову сделать беглый спектральный анализ радиоактивности.
Теперь, очередь пришла к Храмову, показывать свое мастерство. Он поставил гильзу своего прибора на то место, которое выбрал ему начальник, следя за набором импульсов в каждом из трех рабочих каналов. Надо было вычислить природу аномалии урановая она или того же радиоактивного изотопа – тория-90.
Пока «застарелый» приборчик СП-3М набирал необходимые импульсы, Храмов успел скользящим взглядом окинуть всю живописную окрестность. С вершины холма, околица, возлежала, как на ладони. Внизу, под горой – змеилась небольшая быстрая и каменистая речушка, берега которой утопали в зарослях черемухи, цвет которых густой белой пеной стекал к ее темнеющим омутам. За белыми сугробами, буйно цветущих черемух, виднелись, раскиданные по гриве, нарядные, в весеннем убранстве, березы. Среди высокого изумрудного, травянистого покрова, рдели огненными оранжевыми углями, жарки, званые в здешних местах – огоньками.
В многоголосую симфонию всевозможных звуков, доносящуюся оттуда, гармонично вплетался шум ветра, журчание и плеск воды в каменистой речке и многое чего иное, что составляет необходимый звуковой фон. Голоса птиц, распадающиеся на отдельные фиоритуры, в целом, составляли величественную ораторию. Не одна птичка не мешала другой в этом спетом хоре. И, только громкие голоса кукушек, кололи всю эту музыку на равные промежутки времени.
…Начальник велел рабочим внести свои вещи в сенцы крайней избы…
Пребывание Татаринова в грязной яме, никаким образом не отразилось на его фирменном убранстве. Он был, по натуре, аккуратистом. Храмова всегда поражала эта особенность Татаринова при любых обстоятельствах оставаться абсолютным чистюлей. Он никогда, визуально, не видел на своем начальнике никаких признаков грязи. Казалось, что если даже на землю вывернется вся хлябь небесная, то на одеждах инженера-геолога, эта каверза божья, никаким образом не обозначится; он просквозит между дождевыми каплями. Если вспоминать все эти недавно прожитые в палатках на Урапе дни, когда им приходилось по сто раз в день соприкасаться со всеми существующими в природе фракциями грязи, Храмов не смог выделить не единого момента, чтоб это обстоятельство хоть коим образом обозначилось на коричневом плаще своего шефа. Всегда подтянутый и стройный; с неизменною офицерскою сумкою в руках, Татаринов, оставлял впечатление твердого и решительного человека. Целеустремленное, волевое лицо геолога всегда выражало олимпийское спокойствие человека хорошо знающего свое дело. Этот тип лица давал Храмову повод сравнить геолога с решительностью комиссара, времен гражданской войны, у которого не возникало никаких классовых шатаний.
– Сделал замер? – спросил Татаринов, нависая над краем ямы.
– Надо обсчитать, – ответил Храмов, порываясь к своей сумке. Он намеревался достать таблицы с формулами и коэффициентами для перевода отсчетов прибора в процентное содержание радиоактивных изотопов.
– Можешь обойтись без этих вычислений? – спросил Татаринов, и, как бы рассчитывая на юношеский максимализм, словно оговорившись, добавил – Настоящий геофизик должен быстро в уме это прикидывать.
– Мне… кажется, что это урановая аномалия, – справляясь со своим волнением, сказал Храмов.
Татаринов кликнул рабочих:
– Мужики! Подходим сюда! Прихватите с собой лопаты! – И стал, поспешно, разматывать рулетку.
Скоро, сорокаметровая канава, была полностью размечена. Ее будущие края, предстали утыканными сухими ветками. После обязательной процедуры, растянувшейся на битый час, оба рабочие, – поплевав на ладони, – принялись снимать дерн. Татаринов, в то время, достал из сумки папушу денег, и, отделив от нее четыре синие пятирублевки, – сунул их Храмову.
– Вот, тебе четыре пятерки, – сказал он. – В конце работы, выдашь хозяевам, по одной за каждого. На пятерку – купишь, у Анны Васильевны хлеба, картошки и банку молока… для пропитания. Посматривай за мужиками. С тебя – особый спрос, как из специалиста! – Сделал ударение на последнем слове. Потом, выдержав небольшую паузу, невозмутимо добавил: – Остаешься, здесь, за старшего. Смотри, чтоб бичи, не шибко обжирались самогоном. Впрочем, Петров, без понуканий, будет вкалывать. Ему позарез нужны деньги. – Как бы размышляя в голос, продолжал начальник: – А, что касается Василия? – Татаринов на какое-то мгновение призадумался, словно подбирая точные слова. – Пальчиков будет во всем слушаться Петрова. – Сказал он после некоторого раздумья. – Впрочем, риск того, что он сможет отчебучить что-то, в любую минуту, остается огромен. Парень он какой-то путаный, мною до конца так и непроясненный. Петров его выбрал, почему-то. Именно, его. Теперь Петрову, – и карты в руки.
Проводив увозящий Татаринова автомобиль, длинным, задумчивым взглядом, Храмов снова оставшись наедине со своими мыслями.
3. Анна Васильевна и Иван Тимофеевич
На секунду Храмов задержал свой взор на рабочих, сдирающих верхний слой грунта с холма, словно кожу, обнажая желтый глиняный ливер. Полюбовавшись их слаженной работой, и не найдя себе дальнейшего применения возле них, он направил свои стопы в избу, чтоб поближе познакомиться с ее обитателями. Здесь, ему предстояло провести несколько недель.
Храмову, впервые привелось переступать порог настоящей русской избы. Момент – волнительный для каждого впечатлительного человека. Сразу же, из темных сеней, он попал в жарко натопленную переднюю часть избы, треть которой занимала славная русская печь, из зева которой, хозяйка Анна Васильевна, доставала свежеиспеченные хлеба. Пышные булки восседали на лаве, укрытые чистыми полотенцами, чисто генералы в предбаннике.
Хозяин, Иван Тимофеевич, в это время, сидел на скамье, не выпуская изо рта «Беломорканала». У него отсутствовала левая нога. Поэтому, костыль и палка, непременно дежурили возле него.
С первыми словами, в голосе Анны Васильевны появились хлебосольные нотки.
– Милости прошу, к нашему шалашу! – скороговоркой, заговорила хозяйка, встречая юношу. – Отобедаете с нами. Зови своих товарищей! У нас так принято. Вначале надо-ть людей накормить, чтоб потом с ними лясы точить! – Взглянув в окно на свежевырытую канаву, раскроившую макушку холма, хозяйка продолжила слегка задумчивым голосом – Ишь, как споро роют! Чай, нашли, что?..
В каждом звуке ее голоса, чувствовалась настоящая поэзия живой русской речи. Этой женщине невозможно было отказать в приятной, задушевной беседе. Звонкий голос гармонично шел к ее обаятельным и добрым чертам лица, сохранившими, в виде красных прожилков, следы былого румянца на щеках. В глазах этой уже пожившей на свете доброй женщины, отражался весь окружающий мир; сохранился тот живой, неподдельный огонек интереса ко всему происходящему вокруг.
«Вроде б ангел явился, отдохнуть на ее лице». – Храмову пришел на ум поэтический образ.
– А как же! Нашли! – очнувшись, сказал Храмов. Ему хотелось оставить после себя, исключительно, приятные впечатления.
– Дай-то, Бог! – молвила хозяйка, бросая благодарный взгляд на образа, в красном углу избы. – Чай и в нас, какой-нить, комбинат откроют! – И такое, поведала: – Давеча, я ездила к своей дочери в Узбекистан. В – Навои! Может чё слыхал, о таком городишке? Дочка там, моя, в золотом руднике работает. Матерь Божья! – Всплеснула хозяйка в ладоши. – Машины, в карьере, что те спичные коробки.
– Обязательно, и здесь, какой-то город построят! – Желая уважить хозяйке, Храмова начало изрядно заносить. – А, почему б, и нет? Вот, хотя бы, на этом месте! На месте этого холма! – восклицал он в духе литературного Остапа Бендера, и Александра Македонского – основателя огромной империи и множества городов, под своим именем. – Выроем канаву – буровую поставят! – продолжал, Храмов, в духе авантюриста: – Рудник откроется. Вокруг него, появится шахтерский поселок, который, со временем, перерастет в большой город!
Во время его выступления, в избе воцарилась гробовая тишина.
– Дай-то, бог, – нарушая ее, обозвалась Анна Васильевна, снова обращаясь к образам, с крестным знамением. – Дай, бог! Здеся, в глубинке Сибири, люди будут и добрее, и честнее, и еще верят в любовь и красоту. Берегут свои души.
– И нам бы не надоть никуда ехать, – подал голос, Иван Тимофеевич. – А-то, заладили, отправляйтесь, мол, жить в Борисово! А, могилы наших дедов, я, что ль, на себе понесу? Кто за ними, тогды, присмотрит?.. Нам такой простор здеся! Хозяйство свое держим. Все у нас есть: свиньи, буренка. И правительство идет нам навстречу. Вот мотри, – Иван Тимофеевич живо подхватился, и, опираясь на палку и костыль, подскакал к фотографическим снимкам в рамах, густо увешавшими стены избы; выдёрнул из-за одной газету «Правда», и начал тыкать в шрифт узловатым пальцем. – Во! Читай! Есть постановление. Теперь крестьянин может держать не одну, – а целых две буренки.
Речь в правительственном постановлении шла: о в те времена раскрученной пропагандой, так называемой «брежневской» «Продовольственной программе». За рамами хранилось еще очень много идеологических сокровищ. Крестьяне, похоже, неохотно расставались с этим добром даже при тотальном дефиците туалетной бумаги.
«Чтоб наполнить холодильник, надо подключить его к радиоточке», – припомнились Храмову слова: «Из выступления армянского радио».
– В этой деревне, – Иван Тимофеевич, заговорил таинственно, словно признанный сказатель, – еще недавно, почитай, двести дворов имелось в наличии. Выйдешь, бывало, на одном конце деревни гармошка играет, на другом – девки поют. Очень весело было жить. А теперича, остались одни старики. В Борисово, настаивают, «переселяйтесь», избы дают. А зачем мне эта изба? – Сурово сдвинул свои брови старик, меняя тон. – Мне недолго осталось эту землю топтать.
– Куда уже перебираться таким старикам, как мы, – накрывая стол, подтвердила хозяйка. – Нам бы здесь скоротать век. Никому мы нигде не нужны. Дети наши разъехались. В Борисове у нас нет никакой родни.
– Магазин, вот, закрыли. Хлеб, раз в неделю, на подводе возют, – жаловался старик.
– Вот, сами хлеб печём! Как-то, ведь, надо-ть выживать? – Вставила веское слово, хозяйка.
За этими стараниями, Анны Васильевны, стол был украшен наваристыми щами и аппетитно пахнущими жирными ломтями настоящего жареного мяса; возвышалась в большой миске толченая на жиру картошка; в другой миске, чуть поменьше размером, лежали розовые ломтики сала; в полу-миске стояли, вынутые из бочки соленые огурчики. И, еще – квашеная капуста, сметана и молочко в крынке. Только что испеченный, духмяно издающий ароматы, хлеб, большими ломтями лежал отдельно. И все было, по-крестьянски, наложено в миски большими порциями, чтоб можно было насытиться.
Храмов позвал рабочих, – но те, наотрез, отказались.
– Некогда нам, – грубо сказал, как отрезал, Петров – Не хлебосольничать сюда приехали!
«Ладно, потом разберемся», – решил про себя Храмов.
Возвращаясь в избу, он выхватил с баула пару консервных банок – тушенку и сгущенного молока. Старикам, судя по их восторгам, еда геологов пришлась по вкусу. Они все нахваливали содержимое консервных банок. Тогда, как Храмов, в свою очередь, не упускал возможности похвалить их вкусную снедь.
Отведав крестьянских разносолов, Храмов вдруг вспомнил, что в книжке одного сибирского писателя сказано, что здешние жители едят такую травку, которая черемшой называется. Чтоб показаться человеком, подкованным в этом вопросе, он не удержался, и спросил:
– А у вас черемша растет?
– Черемша? – переспросил Иван Тимофеевич. – Как грязи! А, что? Никогда черемши не едал?
– Мы ее в банки закрываем, – сказала хозяйка. И, не успел Ваня и глазом моргнуть, как перед ним выросла на столе мисочка с чем-то ядовито-зеленым на вид. – Ежь! – сказала Анна Васильевна.
– Это не нынешняя черемша. Только прошлогодняя. Новая, иш-шо не наросла. – Вставил свои пять копеек, Иван Тимофеевич.
Храмову хватило одной ложки, чтоб понять, степень своей промашки, с этой книжною подковкою. Покатав во рту горько-соленый комок, он не знал, что делать с ним дальше. Комок застревал в горле, не лез, что называется в горло, отчего лицо его, очевидно, приобрело оттенок переживаемой невзгоды.
Видя человеческие стенания, Иван Тимофеевич, рассудительным тоном, сказал:
– К соленой… еще… надо-ть привыкнуть!
– И-то, правда! Выплюнь, Ваня, ее в помойное ведро! – велела хозяйка.
Потом они стояли вместе с Иваном Тимофеевичем около ворот. Иван Тимофеевич ткнул своей палкой куда-то в зареченскую гриву, и, как человек, чувствующий свою неоспоримую правоту, с патетическими нотками в голосе, говорил твердо, с убеждением:
– Наш чернозем жирный, хоть на хлеб намазывай. Что, ты? Знаменитый алтайский чернозем! Сунь в землю оглоблю – телега вырастет! Мериканцы хотят скупить его. Золотом соглашаются платить. Только нельзя русской землицей торговать. Последнее дело. – Закипая нутром, продолжал старик: – Я за нее кровь свою проливал. Вот эту ногу в 42-м, на знаменитом «Невском пятачке» под Ленинградом, потерял. Слыхал, о таком? – Он постучал костяшкой пальца по своей деревяшке и как-то неприветно, и непримиримо, добавил – Пусть только сунутся сюда…
Незаметно, сзади подошла Анна Васильевна. Она, наверное, давно уже попривыкла к подобным, воинственным речам, поэтому терпеливо дожидалась, пока муж выпустит весь словесный запал, чтоб навести на свое, женское. В этот раз, ей потребовалось, чтоб Храмов помог ей закрыть рамы с помидорной рассадой.
– Пойдем, Ваня, поможешь мне накрыть рассаду, – певучим голосом, говорила она – Чай ночью заморозок будет.
Стояла расчудесная весенняя погода; пели звонко птички. О каких-то там заморозках, не хотелось даже думать.
На немой вопрос Храмова, Анна Васильевна тут же начала с готовностью рассказывать крестьянские приметы:
– А как же, – говорила хозяйка – Когда цветет черемуха, – завсегда жди заморозка. Так у нас, на Алтае, с давних веков повелось.
…После таких высказываний хозяйки, в голове у Ивана отложилось мнение, что крестьяне умеют читать природу, как хорошо написанную книгу…
Храмов отчетливо услышал тяжелый топот шагов на крыльце. Он выглянул из-за избы, за которой они только что накрывали ящики с рассадой. Увидал рабочих, выходящих из калитки. В руках они держали тяжелые рюкзаки. Храмов бросился вслед за ними.
– Вы куда это собрались? – спросил он, настигнув обоих на дороге.
– Душно как-то в избе, – заюлил рабочий, вытирая обильный пот из своего крепкого чела. – Вот, решили, что лучше переберемся на берег реки. Будем жить отдельно.
– Вы будете жить в избе! – жестким тоном, прервал его Храмов. – По заветам Станислава Ивановича Татаринова. Начальника. Слышал о таком?
– Слыхал, – нехотя согласился, Петров, потупив при этом, взгляд. – Он – начальник. Перед ним – я шапку сниму. А ты, мне, никакой не указ. Ты – никто, и звать тебя – никак. Тоже мне, указчик, – процедил он сквозь зубы, вперившись, взглядом, у Храмова. – Начальничек, нашелся. – С этими словами, Петров сделал полуоборот туловища, как бы приобщая Пальчикова к мужскому разговору.
В этот момент, у Храмова, подкатился сухой ком к горлу, глаза застелила пелена ярости, а кровь вскипела от праведного гнева. Не контролируя себя, он схватил Петрова за барки рубахи и стал теребить. Но, тут же, почувствовав под пальцами упругую мощь налитых мышц рабочего, он чуть ослабил свой напор.
В таком положении, они простояли несколько долгих минут. Храмов совсем не струсил, он был готов к драке. Это, наверное, и остудило Петрова (тот, оказался, совсем не готовым к такому развитию событий).
– Пусти, – чуть разжав побелевшие губы, сказал Петров.
Храмов разжал пальцы, и рубаха Петрова сама выскользнула из них. Тот начал медленно заправлять ее.
Пока Петров неспешно приводил себя в надлежащий порядок, Пальчиков, заинтересованно, ожидал окончания инцидента. До этого, он не мог даже предполагать, что у Храмова найдется столько прыти, чтоб тягаться с Петровым.
Не проронив больше ни единого звука, рабочие взвалили на плечи свои ноши, и, согнувшись под бременем, отправились вниз по крутому косогору. Пальчиков, сверкнув иссиня синими, васильковыми глазами, еще раз обернулся, поглядев на остолбеневшего, Храмова. Петров брел без оглядки.
– Чего им надобно? – услышал Храмов за спиной, голос хозяйки.
– Не знаю, – ответил Храмов, не отрывая глаз из спин ходящих за гору бичей: – Какая-то блажь, видать, нашла на нашего Петрова.
– Пойдем, отдохнешь в избе, – сказала хозяйка. – Утро вечера мудренее. Потом, разберетесь…
4. Мечта Петрова
Просыпаются, в крестьянской избе, довольно-таки рано. Надо кормить домашнюю животину. Крестьяне привыкли руководствоваться в жизни известной поговоркой: «Кто рано встает – тому Бог дает». Когда Храмов проснулся, Анна Васильевна, обслужив свое многочисленное хозяйство, топила печь. Красное зарево озаряло ее лицо. Иван Тимофеевич, сидя в неизменной позиции на лавке, дымил своим незаменимым «Беломорканалом». Увидев, что Храмов не спит, – лежит с открытыми глазами, – хозяйка завела разговор, обращаясь в открытый зев печи, к горшкам:
– Только что корову отправила пастись. Твои-то, Вань, сидели у костерка. Грелись. Я, чинно, прошла мимо. Поздоровалась. «Померзли, чай? " – спрашиваю. И тот, что посурьезнее будет, тот, с которым ты, Ваня, вчерась поцапался, что-то промямлил себе под нос. Ночью, поди ж ты, заморозок был! – И запричитала, по своей бабьей привычке, обращаясь к кому-то вымышленному: – И до чего же вы, мужики, народ противный. Что дети малые! И чего вам в избе-то не сидится. Им, токо, добра желаешь, а они все наперекор делают! Сидели б в тепле, в добре. Горя б здесь не знали! Так, нет же: «Пойдем на берег». Дурачье, прости господи. Разве так делают? О, здоровье надо печься! – Отчитав, заочно, своих несостоявшихся постояльцев, Анна Васильевна на какое-то мгновение приумолкла. Очевидно, подготавливая в мыслях какую-то, очередную, словесную экзекуцию.
Конечно, живи рабочие в избе, она б получила некоторую выгоду. Начальник договорился хорошо платить за них. Они умели считать каждую копейку. Рабочие покупали бы картофель и молоко. А, к этому молодому парню, они привязались всей душой, с той первой минуты, когда он вошел в избу.
Ближе к обеду явился Татаринов. Первым делом отправился на канаву, к своим рабочим. Храмов подошел чуть попозже.
– Мне Петров уже пожаловался на тебя, – сказал Татаринов, встречая Храмова, на вершине холма, и, не дожидаясь объяснений, продолжал: – Петров переживает, что ты его деньги спустишь. Пустишь по ветру. Разбазаришь, – одним словом. Так, что переходи-ка ты лучше к рабочим. Поставите на берегу палатку. Она, хоть и вся в дырках, – бывшая банька, – но все же лучше, чем жить под открытым небом.
Уже перед тем, как влезть в кабину, передал Храмову, пожелание Петрова:
– Отдай-ка ты ему его деньги, что я тебе давал. Успокой «грешную душу». А, то он, бедненький, с ума, поди сходит. Этот разговор – между нами.
– Да не нужны мне его деньги! – вспыхнул Храмов. – Пусть ими подавится. Устроил канитель. Я-то, думал…
Уходя, Храмов отдал хозяевам свою пятерку. Анна Васильевна выделила ему, дополнительно, ведро картофеля и банку молока. Он поблагодарил их за проявленную доброту, и отправился на новое свое место жительства. Рабочие, сидящие на принесенном разливом бревне, встретили его сдержано. И, только при виде продуктов, взгляд Петрова немного потеплел.
…Вместе перенесли, на берег, остальные вещи…
Палаток никто из них толком не умел ставить. Без тени, каких бы то не было сомнений, они нахлобучили ветхую и дырявую холстину, на три кола, решив, что так и надо обустраивать походный быт. А, чтоб сооружение сей малой архитектурной формы, выглядело как-то более устойчиво, они присобачили его веревками к вогнанным в землю колышкам. Средний кол тут же проткнул старую, убогую холстину, и вылез неровным концом наружу, придав неэстетической конструкции совсем уже инвалидный вид. Теперь сверху, – с самой высоты холма, – палатка сильно смахивала на какого-то серого птаха – возможно, что журавля – безжалостно пришпиленного кольями к земле. Это сходство еще более усиливалось в ветреную погоду, когда холстина начинала сильно надувать бока, и громко хлопать своими входными крыльями. К тому же, многие мелкие дырочки, былые постояльцы ее, пытались замазывать красной краской, которая с годами выцвела, придавая вид засохших пятен крови. Казалось, что измученная птица, пытается со всех сил, взмыть в небо.
С тех пор, как в палатку влезла корова, и съела весь запас соли и хлеба (только что приобретенного у Анны Васильевны), они, сговорившись, развесили в ведрах остатки продуктов на вётлах под горою. Отчего те, сразу же, стали напоминать новогодние елки, увешанные подарками. Злополучная буренка оставила, после себя, полнейший бардак. Начиная с раскатанной по всей палатке картошки, измазала все вокруг липкой слюной, съела всю соль, и, словно бы в глум над незадачливыми скитальцами, оставила посредине палатки дымящуюся лепёху. Анна Васильевна, оперативно, восполнила потери хлебом и солью.
Вынужденное переселение, не добавило, Храмову, особой радости. Единственную возможность, вместо радио, выслушивать длинные откровения бывшего таксиста.
– А мне, покудова, здесь очень нравиться, – говаривал Петров. – Красота здесь. И, – расход небольшой, – прибавлял этот скупердяй. – В городе, что: повернулся, – и рупь! Гони – рупь! И, так по рублю, за день, знашь, скоко счетчик натикает?.. А, здесь расход небольшой. Я как-то подсчитал для себя…
Петров уже давно укрепил всех в своей мысли, что он скоро накопит деньги на новый «Жигуленок». Это удачное детище из города Тольятти, беззастенчиво содранное с итальянского «Фиата–124» (лучшего мирового бренда 1965 года), – устаревшая модель уже на момент начала выпуска в 1971 году, – пользовалась непомерным спросом у советских граждан. Первые образцы Ваз-2101 были собраны полностью из итальянских комплектующих – и ценились больше остальных аналогов. Стоило это вожделенное чудо советской автопромышленности, четыре годовых зарплаты заводского рабочего, тогда как на Западе – одна тысяча долларов (ползарплаты тамошнего трудяги).
Каждое утро, Петров, забросив на плече махровое полотенце, отправлялся по росной траве к речке. Пристроившись там возле омута, на большом валуне, он начинал обливать себя студёной водой, фыркать и охать на всю округу. Создавая такое впечатление, что в омут невесть как попал довольно-таки увесистый тюлень. Приняв водные процедуры, Петров, тяжелой поступью, шествовал обратно.
Однажды, Василий, проснувшись от громыхания его шагов, высунув лицо из спальника, сладкозвучно, нараспев произнес, сокровенную фразу:
– Солнце встало выше ели, а бичи еще не ели!
– Это ты, – «бич»! – вспыхнул, как спичка, влезающий в палатку, Петров. – А я сюда приехал подышать свежим воздухом! – Стало видно, что слова напарника, больно задели его, до глубины души. – Я себя «бичом» не считаю, – сказал обидчивый рабочий. – Это ты, Пальчиков – настоящий бич!.. Слышишь, Вань? У нас здесь появился бич! Так и запишем, что Пальчиков – бичара! – Посвящая своего напарника в бичи, Петров не забыл напомнить остальным: – У меня очередь на «Жигули» подошла, а денег, совсем немножко, не хватает. Пришлось, вот, подрядиться к геологам…
Однажды, он совсем уж разоткровенничался:
– Если б тогда меня не погнали с таксопарка, я б эти бабки там, в два счета заработал. Вот почему мне придется повкалывать. – Сделав выражение своего лица очень злым и неприступным, будто он кого-то видел перед собою, он, в сердцах, еще прибавил: – Я еще выведу этого козла на чистую воду! Это он меня заставил уйти из таксопарка!
Похоже, что Петров не поделился с кем-то там барышом. Копя деньги на «Жигули», он не захотел отстегивать начальству какую-то обязательную мзду. «Зажилил», – если сказать, одним словом. Его, очевидно, предупреждали каким-то образом. Но, ослепленный жаждой наживы, Петров, не внял начальствующему гласу, и его, под каким-то надуманным предлогом, выставили за ворота таксопарка, лишив престижной работы и приличного заработка.
Позавтракав, оба рабочие, медленно, потащились на канаву. Оттуда, с вершины холма, под аккомпанемент гулких ударов кайла об песчаники, вплетенные в натруженное сопенье, можно было долго слушать мантры Петрова о вожделенных «Жигулях», обязательно – вишневого колера.
5. Ошибка
Тем временем, Храмов, наконец-то, уселся за обязательные вычисления процентного содержание урана по всем добытым на участке точкам. Со всех дыр в земле, на которых он сделал замеры накануне с помощью рабочих, пёр торий-90! Радиоактивный изотоп тория никому был не нужен. Нужен был уран! Для ядерных бомб. Для ядерных электростанций, ледоколов и спутников. Для ядерной мощи Советского Союза.
Храмов, в сердцах, отбросил тетрадку с вычислениями, и, не помня себя, отправился на берег, развеять свою кручину. Душу скребли кошки его мнительности. Храмов корил себя в мыслях за опрометчивое решение, разрешив Татаринову копать канаву, в этом месте. Портил настроение еще и тот факт, что он уже наобещал живущим здесь старикам: «Устроить здесь целый рудник». Да, еще, с целым городам будущего, в придачу. Он прочно сжился с этими намерениями. Свои фантазии, он уже считал, поди, реальностью. С присущим – юношеским максимализмом. Больше всего на свете, он опасался прослыть в глазах уважаемых им людей – лжецом. Постигшее разочарование, разрушило воздушные замки. Звон битых стекол, заполонил все его мысленное пространство.
Он долго бродил по берегу речушки, глубоко погрузившись в свое нервное состояние. Храмов всерьез считал себя виноватым в том, что он позволил затеять здесь никому не нужную канаву.
Хотя, эта канава давно уже существовала в планах Татаринова, и, чтобы там не вычислял Храмов, она должна была появиться на определенном месте. «Планы партии – планы народа», еще никто не отменил, в 1981 году. В этом месте – геологической партии.
Храмов был совсем еще юн, и до конца не понимал всех этих взрослых игрищ в социалистическую экономику, когда, ради выполнения плана любой ценой, на забракованных аномалиях, организовывались схожие работы. Ему еще предстояло вжиться в эту систему, или, спасая душу, уйти из геологии. Слишком уж неравным, выглядело это противоборство.
Среди геологов этой партии ходили злые шутки, что даже если удастся кому-то открыть в этом месте месторождение, то его тут же зароют обратно, чтоб избежать структурных перестроек. Многим давно уже стало выгоднее выполнять «потихоньку» план, и получать в свое удовольствие, зарплаты и премии. Старшего геофизика этой экспедиции, как-то уже понижали до уровня партии только за то, что под его руководством как-то прозевали одно небольшое месторождение урана.
Храмов отправился вдоль речки, вверх по течению. Дойдя до поворота реки, где она как бы вытекает из-за горы, он потоптался возле звонкого переката. По ту сторону речки, частоколом на фоне мрачного неба, торчали темные зубцы вершин высоких вековых елей. Берег был увит густыми зарослями черемухи, ветви которых, пенистым цветом, ниспадали до самой воды. Мысли о постигшей неудаче, заполонили все его сознание; одна сумрачнее другой. Уродливые домыслы корёжили буйное воображение, создавая причудливые призраки неотвратимого краха карьеры. Храмов, без конца, прокручивал в памяти тот злосчастный эпизод, когда он разрешил копать эту нелепую канаву. Поправить что-либо, – в его понимании, – было, уже, слишком поздно. Про себя он уже решил, что постарается как можно скорее выбраться отсюда. У него было соглашение остаться с Татариновым, вместе, до конца этого полевого сезона. Теперь об этом – не могло быть и речи.
Он обратил внимание, что уже долго топчется возле одного переката. По камешкам, подпрыгивая бурунами, бежала студеная вода.
…Неожиданно у Храмова возникло желание перебежать по перекату на другую сторону речушки, добраться до дороги, которая, огибала какое-то болотистое пространство, и выйти на мостик, чтоб вернуться в деревню…
О существовании проселка, он знал с подробной карты, которую заучил наизусть. Перебравшись через заросли дикорастущих густо пахнущих кислиц, Храмов очутился в царстве леших и кикимор. Справа от него простиралось кочковатое, бескрайнее болото, выходящее за края крупномасштабной карты; слева – белая стена березового сухостоя, в палец толщиной. Тронешь такую березку, – и она ломалась, будто спичка. Потревоженная болотная жижа, томила обоняние тлетворным запахом гниения. Кромсая мертвый березняк, он забирал чуть-чуть в сторону гривы. Ему казалось, что так он не сможет ошибиться. Он обязательно подсечет дорогу, которая выведет его к мостику, к деревне.
Но, прошел уже битый час (как ему казалось), а признаков искомой дороги – не предвиделось. Наоборот, болото становилось все мрачнее, и глуше. Храмов заразился внутренней паникой – все больше забирая влево. Под ногами появились болотная хлябь. Между кочками, в рытвинах, с химическими разводами, появилась рыжая стоялая вода. Начал накрапывать мелкий, сиплый дождик.
Тогда Храмов остановился, чтоб привести свои мысли в порядок. Достал сигарету, и опустился на высокую кочку. Неожиданно для себя услышал звенящий голосок переката. Он звучал, словно колокол спасения! Храмов побрел на этот зов, и в скором времени достиг того места, откуда, опрометчиво, начал свое вхождение.
Не заходя в палатку, он отправился к крестьянам. Нашел тех, сидящими, в жарко натопленной избе.
Выслушав его сбивчивый рассказ о болотном злоключении, Анна Васильевна, картинно скрестила на грудях руки и покачала головой.
– Зря ты туда ходил, – посетовала она. – Там даже волки водятся.
– Болото наше, нехожено, – раскуривая очередную папиросу, вступил в разговор, Иван Тимофеевич. – В нем, сказывали старые люди, какой-то татарин жил. Давно это было. С тех пор-то, и речку нашу Татаркой кличут! Золота в того татарина, почитай два куля было! Но пуще золота, – голосом вещуна, продолжал хозяин, – Татарин энтот, свою дочку берег…
Слушая рассказ старика, Храмову стало как-то не по себе. Неожиданно он почувствовал в голове какую-то звенящую пустоту, голову, будто обручем сдавило, вызывая легкую истому. Перед глазами хаотично замельтешили какие-то мелкие, покалывающие в виски, звездочки. Появился легкий озноб. После этого он стал погружаться в какую-то мягкую, словно выстланную ватою, темную яму…
Очнувшись, он увидел над собою склоненное лицо Анны Васильевны.
– Очухался, – молвила хозяйка. – А ведь! Так напугал нас! Белым сделался. Точно мел, белым!
Слова хозяев, доходили до сознания Храмова, откуда-то издалече.
– Наверное, в болоте прохватило. – Голос Ивана Тимофеевича прозвучал набатом. – Малины – достань! – Словно из иерихонской трубы: – Кипяточком пусть нутро попарит! На печь, затащить его, надо-ть.
И, снова зажурчал, нежный голос хозяйки:
– Сегодня ты, Ваня, ты никуда отсюдова не уйдешь. Переночуешь у нас…
Вдвоем, они помогли Храмову забраться на печь. Где, забившись в коротком сне, он уже не слышал, когда хозяйка ходила на берег, чтоб предупредить Петрова о том, что он останется ночевать в избе. (О том, что Храмову сделалось плохо, Анна Васильевна решила не говорить).
Вернувшись, достала малины, а потом вскипятила для гостя воду. Сама взбила ему перину.
– Здесь раньше моя доченька жила, – провожая его в горницу, говорила Анна Васильевна. – С Иваном Тимофеевичем, мы, ведь, только с недавних пор жизнь наладили. До этого, у каждого из нас были свои семьи. Вот сошлись, – и коротаем жисть. Сколько нам, ее осталось? С тех пор, как дочь уехала в Узбекистан, я в этой горенке, уже, никому не слала…
…Проснулся Ваня, довольно-таки поздно. За окном виделась пасмурная, дождливая погода. Накрапывал мелкий дождик. В комнате было тихо-тихо, потом, вдруг, послышались кроткие шаги; скрипнула половица, и в дверном проеме показалась улыбающаяся Анна Васильевна.
– Проснулся, чай? Вот, и хорошо… Я, вот, что принесла. – Достает из-за спины баночку, до половины наполненную серыми камешками, и подает Храмову. – Узнаешь?
Храмов поднес баночку к глазам. Камешки, как камешки. Таких можно было за пять минут набрать на берегу Татарки. Настораживали лишь рыженькие пятнышки.
– Узнаешь? – повторно спросила, Анна Васильевна.
– Нет, – сказал Храмов, возвращая баночку назад. – Я, ведь, не геолог, а геофизик. – Еще, будто в свое оправдание, добавил: – По-работе, мне приходится всегда иметь дело с приборами, а не с каменьями.
– Это же золото! – повысив голос, сказала хозяйка. – Я его на руднике взяла, когда гостила у своей дочери! Возьмешь себе на память?
– Зачем оно мне, – сказал Храмов, улыбнувшись: – Не все то золото, что блестит! Мне останется благодарная память о вас, Анна Васильевна.
– Как знаешь. – Лицо хозяйки сделалось серьезным. Пряча под передником баночку, она, будто спохватившись, сказала: – Начальство, тобою интересовалось. Я не дала будить.
Выйдя на крыльцо, Храмов увидел стремящегося навстречу геолога. Поздоровавшись, Храмов решил сразу же признаться во всем:
– Станислав Иванович, – это ториевая аномалия. Я должен был сказать вам давно об этом. Но, узнал об этом только вчера, когда сделал глубокую обработку материалов.
Татаринов молча выслушал молодого коллегу. Опытного геолога подмывало разыграть перед новичком небольшой спектакль, обвинив его в невнимательности, но он удержал себя от такого соблазна. Все могло легко открыться, и, тогда, пришлось бы как-то вышучивать ситуацию. Он нашел, что выглядел бы, перед этим непосредственным юношей, не совсем привлекательно. Слишком много людей знало об этой аномалии. Поэтому решил открыть перед ним голую правду, рассчитывая на продолжение сотрудничества.
– Это пять лет уже не для кого не вопрос, – начал рассказывать Татаринов. – Эта ториевая аномалия была открыта какими-то студентами из Ленинграда. Суть этого вопроса теперь для нас не столь важна. Когда канава уже выкопана, тебе остается лишь подправить показания прибора, чтоб на бумаге уровень процентного содержания урана выглядел немногим выше ториевых показателей. Этим, я смогу обосновать начало работ на этом участке. Это станет вкладом отряда в годовой план нашей экспедиции по выемке грунта. В конце года, всех ожидает достойное вознаграждения. Больше от тебя ничего не требуется. Ферштейн?
– Ясно, – сказал Храмов. – Можно, я сегодня же уеду отсюда?
Повисла тяжелая пауза.
– Как знаешь, – сказал геолог, после некоторых раздумий. Это значило одно, что ему снова придется искать себе нового геофизика.
…Целый день, они провозились в грязной канаве. Татаринов добавил своим рабочим копать еще десять метров…
Храмов быстро сделал свою работу: подправив процентное содержание урана, меняя некоторые отсчеты. Этим жила вся страна; этим жил, теперь, и Храмов. Ему было так противно на душе, словно его заставили делать что-либо противоестественное и зазорное, чего он делать не должен ни при каких обстоятельствах. Таковы были правила игры в плановую экономику.
Справившись с поставленным заданием, он неспешно начал слаживать старенькие геофизические приборы в ящики (у принимающего их, не должно возникнуть к нему, дополнительных, вопросов).
…Сидя в кузове уезжающего автомобиля, Храмов видел, как возле крайней избы, на дороге появилась пожилая пара. Они негромко попрощались с ним, и теперь молча наблюдали за отъезжающим автомобилем. Весь холм открывался его взору. На вершине, упершись в заступы своих лопат, застыли памятником самым себе, Петров и его верный попутчик Пальчиков скабрезные рабы житейских обстоятельств. Неожиданно, в лучах заходящего солнца, на макушке развороченной горы, словно эпический памятник самому себе, возник темный силуэт: Винтовкина. Винтовкин грозил ему пальцем. Храмов закрыл глаза, и снова открыл – Никодим исчез, на том месте, оставались – Петров и Пальчиков. Храмов – снова – нащупал взглядом стариков. Две старческие фигурки на дороге, возникшие на дороге, они подняли свои руки и качали ему вслед. Руки «выписывали» в воздухе, какие-то сложные символы, очевидно, обращенные в его будущее, какими-то библейскими каноническими сюжетами о путях Господних, неисповедимых…
– Не все то золото, что блестит, – тихо, шепнул Храмов. – И, сразу же, защемило в его груди; на глаза наворачивались слезы, будто здесь, в этой забытой богом деревушке, осталась навсегда, частичка полюбившего сердца.
2012
В гостях у экопоселенцев
Сорваться, и отправиться куда-нибудь, вынашивая в себе какой-то приблизительный план, как тот, что возник у меня, в самом конце той зимы: для того, чтоб завершить свои творческие дела, – вдохнуть в них, наконец-то, всю свою творческую мощь, – мне потребовалось пожить в каком-то заброшенном поселении.
«Необходимо, на сэкономленные средства, приобрести в маленьком селе какую-нибудь полусгнившую развалюху, чтоб сменив обстановку мегаполиса на сугубо сельскую, грохнутся о нее, всеми гранями своего творческого начала», – вдохновлял я себя на этот подвиг, прикидывая в уме, как это все будет замечательно выглядеть в реальности.
План, сам по себе, не казался мне сложным для реализации. Схожих планов в моей голове всегда роится превеликое множество, большая часть из которых, сгорает в топке ежедневной суеты сует, так и не дождавшись своего воплощения. Об этих пусто цветах, я, даже, и не вспоминаю, потом. Некоторые, все же, развиваются во мне, совершенствуются, созревают в количестве плодов, достаточных для ситного пропитания моего творчества.
Экономический кризис захлестнул всю страну высокой волной безработицы, сделав городскую среду обитания весьма неуютной. Мне еще очень свезло: я аккумулировал некоторые средства. Теперь предстояло сыскать подходящее поселение в самой непосредственной близости от города, чтоб не прозевать тот удачный момент, когда экономика пойдет на подъем, и вернуться назад.
Схожая жизнь, называется – «дауншифтинг», – то есть: отказ от карьеры и больших доходов, ради простой жизни на земле.
У меня имелся некоторый опыт выживания в заброшенном селе, в Сумской области, небольшие честные сбережения и естественное желание закончить первый роман о своем сельском опыте.
Перед поездкой, я прочесал Интернет, – выйдя на страничку экопоселения Ромашки, – я, тут же, загорелся жгучим желанием, поскорее отправиться на поиски собственного жилья. Как добираться в это село, я не нашел в блогосфере, но, поскольку, это была, все та же, Киевская область и Мироновский район, – то, на мой взгляд, Ромашки, должны существовать в пределах достижения маршрутного автобуса.
Я купил географическую карту, чтоб мысленно проследить свой маршрут: но – к моему неудовольствию, – села, с таким экологически чистым названием, в искомом районе, я не обнаружил. На интернет-странице, оговорюсь, имелись некоторые фотографические снимки, сделанные в этом поселении, так что в его существовании, сомневаться не приходилось.
Я решил отправиться наобум, а еще точнее, доверившись своему наитию.
В первый день поисков, мне удалось добраться только до районной, Мироновки. На автостанции я, неожиданно для себя обнаружил (узнал у водителей маршрутных такси), что село, с таким благозвучным названием, находится в соседнем, Ракитянском районе. Это значило: необходимо возвращаться в Кагарлык, с которого, можно, пересев в автобус, добраться до этого села.
Уже в электричке меня снова переубедили: что существует еще одно село, с таким красивым названием, – маленькое и совсем заброшенное, – как раз то, которое мне надо, – оно-то и находится в том, таки, Мироновском районе. Собеседник, быстро набросал мне подробный план подъездных путей.
На следующий день, я отправился, на электричке, в Кагарлик.
Путешествуя все эти дни по железной дороге, в маршрутных такси, я повстречал много разных людей. О чем-то переговаривался с ними. Чем дальше я удалялся от столицы, тем проще становились люди, непосредственнее и доступнее для моего понимания.
Брошенные на произвол судьбы, они, получив в дороге статус пассажира, тянулись ко мне со своими проблемами, обнажая, их социальные корни. В непринужденной обстановке, я узнавал об их чаяниях и отчаяниях.
Я снова окунулся в провинциальную жизнь, и мне казалось, что я стою на правильном пути. Пока бушует этот кризис, я постараюсь завершить свой многогранный роман, чтоб, потом, вернуться в столицу, уже, после того, как завершатся все треволнения.
Пассажиры говорили все больше о политике (на начало следующего года, намечались выборы президента). Мнение этих людей, – я знал по опыту своего сельского выживания, – ничего не значило, поскольку как такового быть не могло, априори, а было решение тех, кто сделал выбор за них, за кого эти люди должны будут проголосовать. Во мне не существовало иллюзий, поэтому я не вникал в этот спор, старался только слушать, и запоминать.
Вот, напротив, приютился какой-то неказистый мужичонка с помятым лицом алкаша, который, в эту раннюю пору, находился уже под шефе.
– Ты знаеш, шо такэ АКМ? – задевает меня, странным вопросом.
Я отвечаю уклончиво:
– Догадываюсь.
– А, шо такэ «неправильна пуля»? – спросил пьяница.
– Со смещенным центром? – переспрашиваю.
Я понял, что попал в аналог махновской контрразведки. Так прощупывают тех, которые кажутся подозрительными.
– Скоко калибров в АК? – продолжал он, свой допрос.
Меня спасает полустанок «Кагарлык». Потратив еще полчаса на поездку, я попадаю в этот сугубо провинциальный городишко, с тем же названием. Жду еще часа с два автобуса возле большого озера, и, наконец-то, усаживаюсь в рейсовый автобус, и к полудню достигаю города Ржищева, в котором, ближе к вечеру, в самом центре, сажусь в маршрутное такси, которое везет меня, в неведомые мне, Ромашки. Несколько часов в пути, заставляет меня по новому оценить «правильность» своего выбора. Только изредка маршрутка пересекает какие-то полудремотные сёла.
За окном, тянутся родные поля, перемежаемые балками и оврагами; просторные и тихие, покорно ждущие семян, пашни. Над черною землею, над бывшими колхозными полями, грязно-серой хламидой, висит неприглядное мартовское небо…
Начинают сгущаться сумерки. Вот, водитель тормозит возле развилки.
– Оце и е: твоi Ромашки, – сказал шофер, открывая дверь.
Никаких Ромашек я сразу не обнаружил, только указатель – «Ромашки», – и серую корку, покрошенного по сторонам, асфальта, который вел куда-то в кусты, обозначая направление. Приближающийся вечер, заставлял меня торопиться, чтоб поскорее, засветло, отыскать хоть какой-то кров над головой. На календаре, в аккурат – 8 марта 2009 года, – по советскому летоисчислению: «Международный Женский день».
Через километр мелькнули, в просветах, крыши первых хат. Это была относительная видимость человеческого жилья.
Надо отдать должное предкам: они умели строить жилье из любого подручного материала. Достойных лесов, – визуально, – вокруг не наблюдалось; хаты казались мне маленькими, чем-то напоминающие избушки охотников-промысловиков, которые встречались на моем жизненном пути в глухой тайге.
Первая же попавшаяся хатынка, в зарослях молодого подлеска, с приметным огородом, куда меня привел по кустам машинный след, оказалась хата экопоселенца.
Пристанище было выстроено над глубоким оврагом, служащим одновременно сельской улицей, если смотреть со стороны дворика. Ступая по разбросанному вокруг белому песку, я заметил, сложенное из кирпича, «жертвенное огнище»; огород, оказался, обустроен какими-то рукотворными валами. Жилище оказалось, не запертым внутри, пахнущим глиной, что красноречиво указывало на то, что давно не отапливаемое. Это, естественно, не добавило мне особого энтузиазма, хотя, на первый взгляд, я подумал, что здесь можно остановиться на ночлег.
Дальше, я отправился искать обитаемые хаты. В центре села я наткнулся еще на подобное обиталище, обрисованное таинственными знаками. Похоже, что, его тоже, облюбовали себе экопоселенцы.
Через несколько метров, от меня попытался скрыться какой-то местный обитатель. Стоило некоторых усилий, чтоб догнать его. Поздоровавшись с аборигеном Ромашек, спрашиваю:
– У вас живут еще экопоселенцы?
– Вони, почти всi по роз”iхались, – сказал он, почесывая затылок. – Остались, тiльки: Андрий та Петро. Андрiй, живе – на початку села. А, Петро, зi своею жiнкою, далi, як пойти цiею дорогою. – Он указывает направление, по которому я должен пойти, чтоб найти Петра, если не дождусь Андрея, который часто, – по его словам, – отлучается…
Я тороплюсь той же дорогой назад, поднимаюсь крутым склоном наверх… и снова попадаю к хате Андрея, – к той самой, в которой намереваюсь переночевать. Для меня, это значило, что Андрея в Ромашках нет, следовательно: свежий машинный след, который привел меня к его жилищу, указывает на то, что он куда-то отъехал.
Я снова спускаюсь по крутому склону вниз, и отправляюсь на поиски жилища другого экопоселенца – Петра.
Он встречает меня возле своей хаты, которая больше чем остальные здесь, похожая на человеческое жилье. Своим видом, Петр смахивает, на блаженного инока. Чуть выше среднего роста, строен, я б даже сказал: он имеет приятную наружность средневекового русича: с копной светлых овсяных волос, перевязанных белой повязкой, которая делает одухотворенный лик, схожим на былинного волхва. Голубые глаза смотрят на мир: кротко и почти добродушно. Этот мой, прежде всего, неожиданный визит, несколько нарушал его семейную идиллию, внеся в нее известный дискомфорт. Что заставляло его вести себя несколько настороженно, по отношению ко мне. В его хате, за моей спиной, постоянно ощущалось какое-то оживление: я заметил молодую женщину и ребенка-девочку. Всего в нескольких словах, я быстро объясняю: кто я таков, и чего ищу возле его пенат. Скоро, его взгляд теплеет, он даже выводит меня на свой «огород», – скорее всего пространство, – где он, среди трав и дикоросов, закапывает весною зерна, чтоб осенью собрать урожай. Потом он ведет меня назад по селу, до хаты Андрея.
Я должен буду задержаться в ней на ночь, чтоб утром, – часов в одиннадцать, – вернуться на трассу, чтоб отправиться назад, в Киев. Петр семенит впереди меня, быстро перебирая ногами, только босые пятки сверкают в сумерках. По дороге, он поведал, что ходит так всегда, с тех пор как поселился здесь, в 2004 году. Он сообщает мне, что:
– Андрей, видимо, уехал с друзьями, и, похоже, вернется только к полуночи. Но, ежели, не вернется, то – не беда. Я смогу продержаться, в его хате, до утра. Есть печка, и небольшой запас дровишек.
Петро уходит, – я остаюсь один, в темной хате, с низким потолком и крошечными окошками, на подоконниках, которых, лежат высушенные травы, в виде каких-то инсталляций. В хате витает сильный запах глины, от которого, в темноте, возникает ощущение сырой ямы. Чтоб успокоить себя, я зажигаю свечу, и ставлю ее на обнаруженное пианино. В углу вижу сундук, засланный старым покрывалом; расписанные мелками стены, которые, слой за слоем, покрывались свежей глиной. «Магическими символами» испещрены все стены, которые похожи чем-то, на детские рисунки, на асфальте. Печь, занимающая треть комнаты, очевидно, служит поселенцу жестким ложем. Разложить огонь мне не удалось, поскольку я не обучен был растапливать печи без поддувала. Пугливое пламя не желало разгораться на сырых поленьях, которые отчаянно шипели, дымили и совсем не выделяли никакого тепла. Забрался в верхней одежде на холодную печь, укутавшись покрывалом (сняв его из деревянного сундука); достал наушники, вставил в телефон и попытался поймать хоть какую-нибудь, музыкальную радиоволну, – но все радиостанции молчали, отдалившись, от меня, змеиным шипением. Постарался уснуть, чтоб скорее скоротать долгую ночь – этот кошмар черной дыры, в которую превратилась вся хата. За окнами, в это время, стало совсем черно. Всеми фибрами, всем естеством, я почувствовал, что больше никогда – в обозримом будущем, – не поселюсь вдали от столицы. Захотелось, чтоб поскорее закончилась эта глупая ночь, когда я снова смогу спрятаться в каменных джунглях цивилизации. Страха не было никакого, – было ощущения бесконечной пустоты пространства!
В полночь меня разбудил гул подъезжающей машины. Послышались человеческие голоса, вспыхнул яркий электрический свет. Молодые заросшие люди приятной, одухотворенной внешности, заполнили собою все пространство избы. В тесной хате, они казались большой человеческой толпой (на самом деле, было только четверо: три парня и одна девушка).
Когда им навстречу, с печи, поднялся завернутый в кокон человек, кто-то из них озадачился вопросом:
– Кто такой, будете?
– Да, вот… Явился к вам, собственной персоной, чтоб выяснить… – Перечислил, спрашивающему, все свои пожелания. – Нашел, – говорю, – в Интернете ваше поселение, и решился на этот кратковременный, но дружественный визит.
Мои слова, похоже, нашли понимание в сердцах молодых людей; они смягчилась лицами.
– Потом разберемся, – сказал молодой человек, очевидно хозяин жилья. – Можете, пока, располагать нашей гостеприимностью.
Молодые люди, побродив по хате, полезли в подземелье, которое копал Андрей прямо под печью (вот почему, пространство вокруг его обиталища, было засыпано белым песком).
Скоро молодежь, на ночь глядя, отправилась в Киев.
Андрей, быстро растопив печку, – поскольку дрова уже к тому времени подсохли, да и опыт помогал ему, – согрел свое жилище (очаг, очевидно, сложил сам, как на душу легло).
– Утро вечера мудренее, – сказал Андрей. – Будем отдыхать. Мы только что приехали с Черкасской области. Там существуют такие же поселения. Это были мои друзья. Утром поговорим на эту тему, а сейчас – спать!
Утром, как только забрезжил свет в окошке, я поднялся, чтоб осмотреться основательно. Времени до одиннадцати часов, у меня было предостаточно. Я привык вставать по-деревенски очень рано: в пять, а то и в четыре часа. Сходил на соседнюю фазенду, все еще прицениваясь: представлял, как бы жил в ней, если бы мне ее продали.
Все заросло кругом, как в джунглях, настоящих, деревенских. Пахло талой водой, – и весной.
Я сходил с Андреем за водой, после чего он показывал мне свой огород, рассказывая, для чего служат, те, насыпные валы, на его огороде. В них оказывается, он прикапывал землею разный мусор, который будет служить компостом.
Мы просмотрели снятую, операторами СТБ программу об этом поселении. Это была работа профессионалов: чистая, контрастная. Чего не скажешь о его любительских съемках.
– Мое кино, пока что уступает им по качеству, – указал на очевидные факты, Андрей: – Но я, как мне кажется, на правильном пути.
В фильмах телевизионщиков, прежде всего, рассказывалось о том, как некий парень, получивший хорошее образование, бросил работу в Киеве, которая приносила баснословные прибыли, – миллионы! – и отправился жить в заброшенное село. Экстрасенсы, которые должны были узнать это, соревновались между собою, кто ближе всего приблизится к истине.
– Ну, не миллионы, – поправлял работников телевидения, поселенец, – это сильно сказано. Просто, хорошую работу, приносящую приличный доход, позволявшую мне безбедно проживать в столице. Я, впрочем, и здесь, через Интернет, занимаюсь маркетингом, помогая фирмам находить рынки сбыта. Это дает возможность, поддерживать какой-то уровень жизни. Молоко – стоит дешево; хлеб я, тоже, покупаю в магазинах.
Мы еще, какое-то время, поговорили об экопоселениях, о проблемах его жителей. Оказывается, предыдущее поколения молодых декаденствующих людей, тоже искали какие-то формы гармоничного проживания в природе, по учению того же Порфирия Корнеевича Иванова или Шри Ауробиндо.
Когда-то, я даже ездил даже в Москву, искал способы выезда в Ауровиль, пока на долгое время не осел в заброшенном селе, где много лет выращивал клубнику на продажу. Опыт выживания, в этих условиях, у меня был достаточно солидный.
– Сейчас мы следуем учению Анастасии, – сказал Андрей.
Он подробно объяснил суть этого учения, которое ничем не отличалось от тех, которые доминировали в свое время, и очень воодушевляли нас, тогдашних экопоселенцев.
Я знал многих людей, которые находили в этом смысл своей жизни. Это были достаточно образованные люди, обладающие большими познаниями, которые, отдохнув душой и телом на природе, воспитывали детей и возвращались жить в свои городские квартиры.
Петро, – по словам Андрея, – был отличным врачом, – и его жена, тоже имеет высшее образование.
В мое время, рядом со мной жили люди окончившие факультеты МГУ – юридический и физико-математический…
Количество индивидуумов, способных повторить этот трудный путь самосовершенствования, отнюдь, не уменьшилась.
– Как сейчас попадают в эту систему? – Задаю вопрос.
– По-разному, – отвечает он.
– Девушка Камила, которая жила со мной весь этот год, попала сюда из Киргизии, через Австрию, где проживала несколько лет, пела в опере, а потом, приехав в Киев к своей сестре, скоро перебралась к нам. Каждый человек ищет свой путь восхождения. Всем этим людям, по большому счету, стало тесно в мире людей, в мире денег и ложных человеческих ценностей. Они приобретают здесь новых друзей, живо общаясь между собою. У нас большие связи на всей территории бывшего Советского Союза.
– А что местные? Не досаждают? Много ли здесь алкашей? – Задаю животрепещущие вопросы, интересующие меня.
– Да, нет, не много, но есть, – отвечает поселенец. – Попробовали, было, покачать свои права, но мы их быстро урезонили. Вроде, теперь, ведут себя спокойно. К тому же Петро, он, практически, безобидный человек.
– Божий человек, если судить по Толстому. Сестра Андрея Болконского, опекалась такими людьми, – догадался я, перечитывая знаменитый роман.
Мы зашли на мою страничку, на одном из литературных сайтов.
Перед самым моим отбытием, неожиданно, явился Петр со своей женой Ольгой, и пятилетней дочуркой. Дочурка была самим воплощением их красивой трепетной любви этих духовных людей. Ради нее, стоило бросить карьеру и друзей, чтоб пожить здесь, в естественных условиях выживания. Теперь, в дневном свете, я смог подробнее, рассмотреть их лица. Они потрясали воображение своим естественным видом, очевидно души этих экопоселенцев, отразились на их лицах. Какая-то тонкая былинная красота была разлита в них, искрилась с открытых голубых глаз. Вся семья находились ближе к природе, чем к людям: чистые, светлые, одухотворенные лики, хоть иконы с них рисуй.
Я читал их, как открытую книгу, в которой рассказывается о том, что мы потеряли навсегда, запутавшись в цепкой паутине сложных социальных отношений, пройдя все стадии метаморфоз – расслоений, – усложняя и без того сложные отношения между собой. Они были воплощением того естественного мира, который мы потеряли навсегда. Они вернулись туда, чтоб жить в любви ко всему живому…
…Напоследок, Петр протягивает мне сверточек со снедью. Я не могу ему отказать, насколько естественным выглядит его желание сделать человеку добро, лишив этого, я, уверен, сделаю ему очень больно. Я вижу насквозь эту жизнь, – эта пища скудная, рассчитанная на минимальное количество калорий, необходимая дневная норма для поддержания духа в теле, – остальное додаст дух земли – Природа.
Я жил подобной жизнью долгие годы, и не мог отказать ему в том, чтоб он, лишний раз, проявил свою доброту. Уходя по дороге, я долго ощущал на себе их взгляд, полный человеческого участия и достоинства. Смог размотать сверток, только оказавшись на остановке, где еще полчаса вынужден был ожидать проходящее маршрутное такси, чтоб добраться, прямиком, на Киев (оказалось, что можно добраться и так). В свертке оказались два пресных пшеничных коржа, – выпеченные прямо в золе, – и вкусные сушки, из диких яблонь и груш.
2010
Егоршин
Стоя во дворе, я услышал из-за забора, с дороги ведущей к Сейму, знакомый с детства голос Егоршина. По-уличному – Петьки. С разлитыми в его голосе, нотками, какой-то теплой (немного наигранной) бодрости:
– Здравствуйте! Приехали в гости?.. – Он, ко всем уважительно обращался на «Вы», не соизмеряя возрастов. И, сразу же, безо всяких обиняков, за этими словами, последовало: – А я Вашей маме помогал! Носил ей картошку в погреб!
Повернувшись, я обнаружил возвышающуюся над забором голову, покрытую незаменимым здесь картузом-«шестиклинкой», изделием славной Конотопской швейной фабрики, имеющим надежный спрос на протяжении полувека; под ним угадывалась обширная лысина. Скуластое лицо настоящего русака, светилось неподдельной кротостью. Егоршин, был невысокого роста; худощавый мужичонка, выглядящим под шестьдесят лет. Его слова прозвучали, как пожелание попасть ко мне в гости, чтоб выпить чарку горилки.
Прежде чем, попросить его за стол, мне предстояло вытряхнуть с головы целый ворох накопившихся забот, которые преследовали меня в селе. Мать серьезно доставала колхозная быдлота, пытаясь заставить ее освободить собственную хату, в пользу сестры. (Еще впереди предстояло пережить похабное судилище и жестокий раздел небольшого жилища, – а, пока, вся местная школота, подогреваемая тёткой, донимала мать своими сплетнями).
Мне часто приходилось курсировать между селом и Конотопом, где я работал на одном из многочисленных заводов. Мать, слепую и немощную, с трофическими язвами на ногах, постоянно стремились выставить на улицу. После смерти бабушки, не осталось завещания. Мать жила вместе с ней; с моим старшим братом и его женой с сыновьями. Тетка появлялась наездами, больше времени предпочитая оставаться в Конотопе, у собственной дочери. Навевая, матери, что она вернется насовсем, и они заживут вместе; всякий раз все глубже забивая клинья раздора, между матерью и ее невесткой. Брату пришлось отделиться, чтоб только избавиться от начавшихся семейных ссор. Мать чем смогла тем помогла своему сыну; в основном, деньгами. Таким образом, тетка расчищала дорогу к захвату. Потом, заручившись поддержкой местных деятелей, при поддержке тогдашнего председателя сельского совета, Вани Черного, проживавшего напротив, мать заставили подписать «добровольный раздел» – она получила: комнату, без выхода на улицу. Сестра сразу же дала ей понять, что матери нет места в ее жизненных планах, и начала, планомерно, «выживать» мать из жилища.
Когда я появлялся в селе, тетка нарочито, провоцировала скандал: «бегала по улице», «встречая» по дороге якобы к своему сыну колхозных подружек, таких же сплетниц-доносчиц, какой была и сама у колхозных начальников. Это ее стихия: наговоры, заговоры, приговоры, наветы! Она имела в селе незыблемый авторитет, особенно, у начальников-сексотов. Я наивно полагал, как всякий идеалист-романтик, стремящийся попасть в литературу из центрального входа, что времена наступили иные, и этим она ничего не добьется. Кем только они меня не пытались уличить! В наркомании! В том, что я оставил сироток в России! Даже… в педерастии (без такого обвинения перечень мнимых грехов выглядел бы неполным). Доносы ее дочки, читали мне, все те же, конотопские милиционеры. Эти две, прожженные, б***и, просто бесновались на глазах, в одуревшей от сплетен, колхозной толпы. А меня, тогда, все больше мучили другие, литературные, проблемы. Меня долго не печатали; о причинах я могу лишь только догадываться. Хотя ответы из московских редакций, таких как «Литературная Россия» и «Литературная учеба», согревали мое самолюбие. Это держало меня в колее, и заставляло дальше трудиться над своими текстами. Время горбачевской перестройки, я считаю, самое лучшее для оправдания юношеских надежд! Тетка, в очередной раз, разобрав печку, до смерти напугала мать, что пообещала что «забьет дверь». Такое право, похоронить мать в собственной хате, мог дать только конотопский суд (самый гуманный суд в мире! ).
Короче, пока тянулась вся эта волокита с судами, мне приходилось, после работы, отправляться в село. Тетка, обычно, «убегала к своему сыну Боре», по дороге «встречалась с Парасиной (такой же сплетницей)», которая должна была выступить на суде, в качестве свидетельницы «теткиных, непомерных, страданий». Это надоедало, но я вынужден был дежурить возле матери.
Я помнил Егоршина еще с детства, как незаметного и скромного труженика колхозного зернохранилища. В годы школьной учебы, в колхозном селе, мне, приходилось отрабатывать «трудовую четверть» в колхозе, именно в зернохранилище.
Основная часть моих сверстников, пристраивалась на сенокосе; на лошадях «тягали копыци».
Жил Петька на Москаливке: со своей женой, сыном и невесткою-россиянкою. Его российский выговор, не смогла покоробить даже агрессивная среда употребляемого в этой местности суржика, который давно уже доедал его украинского собрата. Чтоб закончить Петькин портрет, надо обязательно упомнить старые запыленные кирзовые сапоги, которых он никогда не снимал; невзрачный пиджачишко за шестнадцать рубликов купленный в местном сельпо, в котором, он, на 9 мая, неизменно торчал под сельским обелиском, в когорте таких же ветеранов, одетых в сохранившиеся военные френчи. Его медали, мне, почему-то, не запомнились.
За чаркой горилки, он поведал мне, следующее:
– …У «Фердинанда» дуло, – указывал он узловатым пальцем, на стоящее у двери ведро, – как, вон енто, ведро. Девяносто два миллиметра! Что ты? Это – сила!..
Мне вспоминалось, как Петька, встретив нас, школяров, по дороге домой, потешал нас своими, похабными прибаутками:
« – Мальчик, мальчик, засунул в …опу пальчик, и вытянул оттуда г…на четыре пуда! ».
Мы угорали со смеху. Дядька казался нам чудаковатым. О педофилии тогда не принято было говорить. В сельской бане, еще, мылись все скопом; мужики могли рассматривать детей, ничем не рискуя.
Вечером я отправился на берег залива, над которым возвышалась давно уже не работающая сельская баня, которую обживали летучие мыши. Выбрав лодку, стоявшую на привязи, напротив обросшего лозами Островка, я глядел на давно уже выросшие сосны, ставшие стеной на том берегу залива. Сам небольшой заливчик, отделенный протокой от Сейма, и зарос кувшинками. Сюда, с окрестных лугов, под защиту крайних хат, весь вечер прибывали табуны гусей. Выходя из воды, они хлопотно отряхивались, взмахивая крыльями и, с гоготом, устраивались на ночлег.
На небольшом плесе появились на лодке рыбаки; они, с лодки, обложили средину заливчика «кидальной» сетью, и принялись «бовтом» или «хрокалом», – деревянным приспособлением, создающим громкий звук и пузыри воздуха в толще воды, – загонять в сеть, рыбу. Так ловили их деды и прадеды, пока понаехавшие «электроудочники», заставили забыть их этот древний промысел. Рыбалка многим мужикам, здесь, была настоящим праздником; отдушиной в их беспросветной, колхозной, жизни. Рыбацкие компании не менялись годами.
В это время, на берегу появляется Егоршин. Я видел, как он спускается к берегу, и, побродив между табунами гусей, стал приставать к рыбакам.
– Иван Якович, – обратился он к дядьке Лукавенко, сидящего на веслах, – ты не бачив моих гусей?
– А, Петька! Отстань ти iз своiми гусями, – огрызнулся тот в ответ. – Бачиш, тут люди дiлом занiмаються! А ти зi своiми гусьми лiзеш! Не бачив!
Получив неприятный ответ, Егоршин виновато потоптался на месте, но, тут же, обнаружив меня, сидящего на лодках, отправился в мою сторону. Подойдя поближе к привязи, он застыл на месте, всматриваясь в протоку. Он был похож на пограничника в дозоре, какими их рисовали в книжках, выпущенных в сталинское время. Не хватало лишь сторожевой овчарки.
Не обнаружив ничего интересного для себя на протоке, он приблизился ко мне:
– У тебя нет закурить?
– Есть, – говорю, – добирайтесь…
Стуча о борта соседней лодке кирзовыми сапожищами, он подобрался ко мне, вплотную. Получив от меня сигарету, он отломал фильтр, и начал долго разминать ее перед употреблением. Это была болгарская сигарета «Ту – 134». Он, похоже, привык курить только, привычную, «Приму», которую курили местные мужики. В зареве зажженной спички, я увидел уродливый шрам на тыльной стороне его ладони.
– Война?
– Война. – Выдохнул он, вместе с дымом.
После этого короткого, заключившего в себе весь драматизм целой эпохи, слове, он надолго умолк, словно собираясь со своими мыслями. Я понял эту, повисшую, паузу. Мне сразу же почему-то стало понятным его желание, кому-то излить все то, что у него наболело на душе, – и стал, смиренно, ждать длинного рассказа о войне:
– В 37-м году я окончил землеустроительный техникум в городе Ельце. После чего меня призвали в Красную Армию. Направили в военное училище, где я учился на наводчика танка… – Начал, Петька.
Война, усилиями наиболее обделенных успехами в Первой мировой войне, стран, постучала в ворота Европы, своею костлявою рукою смерти. Сталин уже давно в своих училищах и на военных заводах обучал немецких военных специалистов современному ведению войны. Они проходили в Советском Союзе необходимые для обучения сборы; присутствовали на всех полевых учениях. По Версальскому договору Германии в одиночку практически невозможно было возродить свой милитаристский потенциал. Сталин хотел использовать выращенного из гомункула национал-социалистической партии Германии, фюрера, в будущей войне как агрессивного провокатора, поэтому не жалел для него стратегического сырья. Советский Союз помогал Гитлеру в строительстве военной мощи Третьего Рейха. С началом мировой войны, оба хищники, скрытно, готовились к смертельной схватке между собою за мировое господство. Подготовившись, они тут же вцепились в горло друг другу, стальными клещами панцирных дивизий.
Егоршин рассказывал: как они должны были наступать на город Перемышль. Этот польский город, населённый украинцами, был в советской зоне оккупации, по заключенному накануне Второй мировой войны пакту Молотова-Риббентропа; оказался захваченным немцами в считанные часы после начала войны. Чтоб отбить его назад, сталинские стратеги бросились в наступление уже на третьи сутки; по дорогам двигались нескончаемым потоком сталинские войска. Пехота сидящая в кузовах полуторок. Танки…
На башне одного из них, ехал в Европу, старший сержант Петр Егоршин.
« – Я сижу на танке. Вижу у стены ржи, гору блестящих консервных банок, – вспоминает Егоршин. – « Я, докладываю об этом, командиру…».
Скоро, по его словам, с ближайшего леска, их атаковал немецкий десант. 1200 человек. Они пошли в контратаку…
Взрыв! Егоршина – контузило. Осколок разорвал ему правый бок. Вспоминая этот первый бой, Егоршин долго благодарил своего земляка из Смоленской области. Который на плечах, вынес его, окровавленного, с поля боя. Он доставил его до ближайшего медсанбата. (Они переписывались с ним и после войны).
«– После госпиталя, меня, – продолжает свой рассказ, Егоршин, – зачислили в танковый экипаж башенным стрелком, и бросили в бой. Это случилось уже в 43-м году, под Харьковом…».
Шла лобовая, танковая атака. Егоршин – в головном танке. Впереди только «тигры» и «фердинанды». За ними – цепь вражеской пехоты. Болванка угодила в боковую броню. Командир, младший лейтенант Акопян, закричал: «– Горим! Покинуть машину! » – И, сам полез в боковой люк…
Выбравшись из пылающего танка через верхний люк, Егоршину открылась картина настоящего ада. Она будет преследовать его всю оставшуюся жизнь. Дымят подбитые и горящие танки на поле боя. На броне танка – висят кишки командира Акопяна. У него – распорот осколком живот. Тело лейтенанта, безвольно лежит, возле гусениц. Он видит немца, который строчит с автомата. Пули тенькают по броне; они рикошетят и впиваясь ему в руку. Он теряет сознание, сползая с танка наземь…
На этом атака не захлебнулась в лужах крови, и его подобрали подоспевшие санитары… …В эшелоне, увозящем раненных подальше на восток, у Егоршина открылась старая рана в боку, полученная еще под Перемышлем. Эта рана не будет давать ему покоя всю дорогу. Это от нее, он в бреду кричал всю дорогу: «– Наводка 90 градусов! Огонь по наступающему врагу!».
Долго стояли на станции Арысь, что: под Ташкентом. Запомнилось, хорошо. После этого, их повезли в горы, а ж за Алма-Ату, где содержали немецких кобылиц, молоком которых там и выхаживали тяжело раненных бойцов. При приеме в госпиталь, начальник велел санитарам, чтоб те подносили каждому раненому бойцу большую кружку кобыльего молока. Многие, почему-то, отказывались пить кумыс. Но Егоршин выпил, – и еще попросил повторить лечебную процедуру.
«– Посмотрите на этого богатыря! – Сказал, улыбаясь, начальник госпиталя. – Этот боец обязательно выздоровеет! Попомните мои слова!»
Как в воду глядел. После госпиталя, Егоршин, некоторое время, готовил молодое пополнение под славным городом Тула. Снова открылась злополучная рана в правом боку. Оттуда он снова попадает в военный госпиталь…
«– Не выживешь ты, брат, Егоршин! – Сказал ему доктор, выписывая с госпиталя. – Ищи себе для жизни местность, которая бы не очень пострадала от войны. Чтоб молоко обязательно было с коровы, и хорошая баба! Только это тебя и сможет спасти! »
«– Да где ж я такую местность найду? Я – сирота. Мою деревню немцы сожгли. Нету для меня такого места! » – Взмолился, Егоршин.
Доктор пожал плечами, переводя взгляд на сидевшего на выписке полковника. Тот, до этого времени, молчал.
«– Знаю я такое место! – Обозвался полковник. – Вижу, Егоршин, парень ты мировой! Едем со мной, – не пожалеешь…».
Так Егоршин попадает в послевоенный Конотоп. Это было время массового переселения неприкаянных россиян в Украину. Полковник отвел Егоршина в райисполком. Там как раз заправляла всеми делами боевая, властная женщина. Полковник переговорил с нею с глазу на глаз, а потом позвал в ее кабинет Егоршина.
«– Вот, – этого парня, я рекомендую, – говорит этой женщине полковник: – Это старший сержант, гвардеец, танкист. Он хочет здесь жить и работать. Можно подыскать ему такое место, которое не сильно пострадало от войны?.. »
«– Такие люди мне сейчас позарез нужны, – ответила женщина. – Отправлю я его, сейчас же, руководить целым колхозом…»
«– Не могу я руководить, – сказал Егоршин. – Я, – сильно контуженный. Мне сейчас руководителем быть никак нельзя. У меня чуть что, я перенервничаю, открываются раны. До войны, я окончил землеустроительный техникум. Поставьте меня, если можно, простым землеустроителем…».
“ – Ладно, – сказал председатель Райисполкома. – Очень жаль. Обычно, все хотят пребывать на командирских должностях”.
Так Егоршин устроился землеустроителем на три присеймовских села. Женился. Стало поправляться здоровье. Стал кандидатом в члены кпсс…
В 48-м году в управление колхоза приходит строгая директива. Председатель колхоза Лебедь срочно собирает весь партийный актив села.
«– Надо, – говорит, – срочно собрать урожай! Пришла директива…».
«– Нельзя этого делать! – Озабоченно, воспротивился Егоршин: – Зерно еще молочной спелости! Оно лежать долго не будет. Покоробит его солнце…».
После этих слов, в конторе, наступила гробовая тишина.
«– А мы его еще в партию собрались принимать? – Слова парторга Сiрика прозвучали, как приговор тройки: – Не видержав ти iспитательного сроку, Егоршин. Твоi слова йдуть врозрiз з генеральною лiнiею комунiстiческоi партii! ».
«– Да, шо там з ним цацкаться? Гнать його треба в шию! – Сказал Лебiдь. – Шоб ноги его тут бiльше не було! Щоб на 50 метров до контори не пiдходив! ».
«– Ложи, Егоршин, на стiл свою карточку кандидата. – Сказал ему, парторг Сiрик. – Не нужний ти такий, нашiй коммунистической партii! И катись-ка ти, чоловiче, до чортовоi матерi. Або: на всi чотири сторони! »
После этих слов, ему ничего не оставалось делать, как достать из кармана гимнастерки свою карточку кандидата, и уйти, потупив глаза, из конторы…
«– Поставили меня дежурить на мосту», – продолжает Егоршин.
В самом начале октября месяца, их заставили вкопать перед мостом шлагбаум, чтоб по мосту не ездили грузовые машины. Мост рассчитан был только на три тонны. В тот же день он почему-то оказался дежурным на мосту. Хотя очередь была не его.
«– Стою, – говорит, поэтически вздохнув, Егоршин. – Тихо. Осенние звезды светят ярко…». – По его словам, проехала подвода запряженная коровой. В., с дочкою повезли домой лепеху, которой всю зиму будут кормить ее же, корову.
…И тут… от села… светят фары; подъезжает, с фанерной кабиной, ЗиС. В кабине сидит шофер, и заведующий Кролевецкой заготконторой. Едучи с Конотопа, они якобы завернули к своему другу, председателю, посидели там до полуночи, а потом, – чтоб не возвращаться назад в Конотоп 42 километра, – решили ехать напрямик, через деревянный мост. А, чтоб не сбились с пути истинного, – по версии Егоршина, – показывать дорогу им до моста, Лебедь послал какого-то своего верного холуя (Луговца), который присутствовал на посиделках. Того посадили в кузов, где уже находилось человек пять каких-то, проверенных, бойцов…
«– Можно проехать через мост?» – Спросил у Егоршина, заготовитель.
«– Да вы мне мост завалите, – отвечал ему Егоршин. – В вашей машине пять тонн веса, а мост рассчитан всего на три!».
«– Да ты я вижу, парень совсем не сговорчивый! – Повысил свой голос заготовитель. – А, ну-ка, ребятки, поймайте мне этого молодца! – Сказал он, заглядывая в кузов своей машины».
С кузова на землю, тут же, посыпались его люди. Егоршин, перепугавшись, стремглав бросился в кусты, в надежде берегом добраться до села…
«– Куда там! – Говорит Егоршин. – Это люди были военные, быстро раскусили мой маневр…».
Растянувшись длинной цепочкой на лугу, они быстро приперли его к реке, и, «взяв в плен», привели к своему начальнику». Тот стоял на мосту, переваливаясь с носков на пятки. Отечное лицо, наглые глаза. Усики, по тогдашней моде. Работая до этого лагерным вертухаем, привык к тому, что ему все подчинялись беспрекословно.
«– Тек-с, – начал распоряжаться судьбой Егоршина заготовитель, – свяжите-ка ему, братцы, руки, и киньте его в воду! ».
Но тут, – вдруг, – заупрямился шофер.
«– Если свяжете ему руки, – сказал он, – не повезу вас дальше! Что хотите со мной делайте!»
Трудно определить теперь, была ли эта история чистым розыгрышем? Я не жил в то время, но, судя по понятиям современных начальников и бандитов, это вполне похоже на интригу. Нравы, в тех местах, судя по всему, немногим изменились. Я сам попадал там, в бандитские 90 -е, в похожие обстоятельства. Для этого местный пахан, нанимал бандитов, которые стреляли дробью «как бы в шутку», – но холуи, от вседозволенности и безнаказанности, легко переходят всякие грани.
Как всегда, в подобные мгновения, время превращается у вечность. Заготовитель по-прежнему переваливался с носка на пятки, с интересом рассматривая плененного Егоршина. Он искал на его лице страх. Палачи любят наблюдать человеческий страх. Эти психопаты питаются энергетикой чистого страха, и, за этим, готовы отправиться за много километров. Охота на людей, в крови у советских (и постсоветских) начальников. Здесь: и лишняя порция адреналина в крови, и авторитет, и помощь «хорошему» «нужному» человеку. Который, в нужную минуту, выручит и его, когда представиться такая же возможность. Те, кто приехали вместе с заготовителем, не были, обязательно, на передовой. Это могли быть охранники лагерей. Которые убивали, получая от вида смерти, наслаждение.
Егоршина не связывали. А, вытащив его за ноги, на середину моста, бросили в ледяную купель…
– Течением меня затянуло под мост, – вспоминает Егоршин. – Я схватился за толстую поперечину, которой были скреплены все четыре пали забитые в дно, и вылез на нее… «– Вы от меня далеко не уедете! – Кричал Егоршин из-под моста. – Я номера, вашей машины, запомнив! »
Кричал, похоже, находясь в состоянии аффекта. Посовещавшись на берегу, преступная компания вернулись обратно. Похоже, что они чего-то испугались: и от шуток, решили перейти к делу. А поскольку Егоршин находился под мостом, где его не так-то просто было достать, – они, оторвав шлагбаум, начали заводить его одним концом под мост, чтоб сбить Егоршина с поперечины.
«– Но разве удержишь в руках такую тяжелую дубину? – Спрашивая, Егоршин взводит на меня замутненный грустью глаза, чтоб показать пережитый им ужас. – Она тут же вырвалась у них с рук, и поплыла мимо, – продолжает он, увидев мою реакцию: – Тогда они, срывая настил, начали ломать над моею головою, доски…
Егоршин все время кричал, находясь под мостом: «– Люююди-и-и! Спасииите-е-е! Помогииите-е-е! »
С луга, кто-то откликнулся. Объездчик! Объездчики, постоянно, сторожили луга от не очень сознательных колхозников.
«– Иду-у-у! » – Услышал Егоршин спасительный голос.
Только после этого, нападающие перестали отрывать доски, и бросились к машине. Через минуту она прогрохотала над головой Егоршина, обсыпая того пылью…
Объездчик помог Егоршину выбраться с воды. Для этого пришлось тому снова лезть в студеную воду, а потом со всех сил грести к берегу.
– Если б меня занесло под кручу, – говорит Егоршин, мне б оттуда никогда не выбраться. Там течение быстрое, а берега скользкие. Амба мне была б…
Объездчик помог разжечь Егоршину костер, чтоб тот хоть немного смог согреться, и обсушиться. Только после этого Егоршин отправился в село, к председателю Лебедю, доложить о происшествии на мосту. Кому же еще? Только у того телефон в конторе села.
А у того гулянка еще в полном разгаре. Председатель уже знает, что произошло. Его холуй, обо всем и доложил.
– Не стал помогать мне, – в голосе Егоршина прозвучала нотка не перегоревшей за полвека обиды, – а побежал докладывать председателю! Вот такие бывают люди! – Возмутительным тоном, говорит Егоршин.
«– Ти нiкому не розказував? » – Спросил Лебедь, пристально посмотрев, Егоршину в глаза.
«– Нет», – сказал Егоршин.
«– Тодi, й кажи нiкому. Мiй тобi совет. То очень хорошие люди були! Ось тобi стакан самогонки. Для сугреву. Да й дуй собi додому»! – По-отечески, советовал председатель. …Через месяц к Егоршину на мост явился все тот же шофер.
«– Ты, – спрашивает, – никому не рассказал о том, что с тобою произошло? »
«– Зачем же мне говорить о тебе, когда ты меня от смерти спас? » – Вопросом на вопрос, спрашивал Егоршин.
«– Тогда держи! » – Шофер подал ему две бутылки водки, и бумажный сверток, в котором, колечком, лежало полкилограмма колбасы.
– «Там мы доски на мосту поломали? » – Шофер полез в кузов. – «Держи! » – Крикнул он, выбрасывая перед остолбеневшим от свалившегося изобилия, Егоршином, две длинные, дубовые доски.
«– Я сделал из них деревянный диван, который стоит у меня до сих пор», – говорит мне потрясенный, до сих пор, Егоршин.
«Что такому надо, за унижение страхом? – задаю я сам себе тут же вопрос, на который существует уже фирменный ответ: – Полкило колбасы по 2. 20 и, естественно, водка. К этим символам советского изобилия, приучали и нас, тогдашних школьников. Егоршин, своим рассказом, помог мне заглянуть вглубь уходящего века. Кнут и пряник, – вот символы советской эпохи, – колбаса и страх!.. »
– Вон мои гуси плывут! – Этими словами Егоршин выводит меня из состояния грустных размышлений над судьбами людей. – Разве ты не видишь моих гусей? – Обращенный ко мне голос, требует живого участия. – Гусак белый, а четыре гусыни, серые!..
Я, натружено, всматриваюсь в разинутый зев сумеречного залива.
– Нет, – говорю, – ничего не вижу.
– Я их голоса слышу! – Уверенным тоном, говорит Егоршин. Его лицо облагораживает светлая радость.
Проходит несколько минут томительного ожидания, и, в пространстве пролива, возле Островка, показывается караван важно плывущих гусей. Впереди, белым пятном, проступает крупный гусь, как-то гармонично вписываясь в чернильные сумерки, надвигающейся на залив ночи…
1996 (2017)
Свадебный поезд
Предисловие
Словно в насмешку за какие-то запамятованные давно прегрешения – сама судьба направила меня в бессрочную ссылку, в одно захудалое село. С поэтами-бунтарями подобным образом поступали всегда. Пушкина – в Михайловское, Бродского – в архангельскую деревню за тунеядство…
Это только во Франции поэты рождаются в провинции, чтоб потом умереть в Париже. На моей дороге случилось село под поэтическим названием – Хижки, в Конотопском районе, в Сумской области. О Киеве, тогда, я мог только мечтать, находясь в нем.
О этом месте, можно было подумать, как о божьем даре: для прохождения литературной линьки. Стояла во весь рост лишь проблема элементарного выживания. И еще, престарелая мать, которая по причине многих своих хронических болячек, оставаясь по сути дела, никому не нужной; уже давно затравленной собственной сестрой.
За матерью пришлось ухаживать, как за неизлечимо больным человеком (дело было даже не в старости).
Поэтому работу радиотелефониста, на первых порах, я считал «сущим подарком, ниспосланным мне высшими силами, как производственное орудие, необходимое для добывания хлеба насущного». Обихаживая обширный клочок земли, я нарабатывал необходимые навыки в выращивании урожаев. Этих знаний мне хватило, чтоб с одной сотки кормиться не один год; даже в Киеве. Исключая, конечно, картошку, которую приходилось прикупать.
Скоро в меня появились в селе обширные грядки клубники, которые обеспечивали весьма приличным заработком. В сочетании с материной пенсией, я устроился довольно-таки неплохо в эти смутные, 90-е, годы.
Бывшая колониальная агентура, всегда работающая на Кремль, не сразу пришла в себя после планетарного развала Советского Союза. Очень медленно восстанавливалась агентурная сеть, по мере разворовывания адептами колониального владычества Москвы, всего того, что еще оставалось от «социалистической экономики»; как плата тем, кто готовил Украину для нового порабощения.
Проекты поэтапного объединение в новый «союз», сработают в их головах уже в начале следующего столетия, когда вся эта братия, приходит в себя от дикого шока, вызванного начальным периодом. До этого, они призваны были поддерживать жизнь в определенных структурах.
В это время, я мог спокойно заниматься своими хозяйственными и литературными делами.
Агентуру возглавлял Бардак. Можно представить себе в виде такого себе породистого альфа-самца, морда-лица которого светилась свежими наростами жира; имеющего двойной подбородок и набухший живот, словно у классического кулака-держиморды. Узнаваемый тип украинского хохла, который верой и правдой служит поработителям за малую долю: пользоваться неограниченной властью. Этот некоронованный король, лишенный всякой совести, руководил избранными холуями. К подобным психопатическим типам больше подходит мерзко звучащее слово «пахан», которое произвела на белый свет сталинская система для использования его в закрытых пенитенциарных заведениях. Как по тюрьмам, – так и в колхозах, – существовала подобная, рабская, система организации труда.
Посему, я буду принципиально употреблять для символических обособлений подобных Бардаку социальных типов – этот сугубо тюремный термин, обозначающий роль главенствующего тела в определенной среде.
Судьба, естественно, определила автора под его неусыпное наблюдение. Этими делами занимались его людишки, имеющиеся в каждой сельской щели. Это были – его глаза и уши, которые никогда не прятались. Мерзко осознавать, что за тобой ведется постоянное наблюдение. Эта мышиная возня создавала видимость ему основной работы; затем поддерживалось доносительство.
Я выучил всех сельских стукачей, услугами которых, активно пользовался местный пахан. Их очень много; практически каждый фуфаечник, мог выдать конспирологическую версию на основании даже случайно мною обронённого слова. Это служило основанием для строительства каких-то оперативных планов и действий. Пахан обладал всеми данными на случай развития ситуации в том или ином русле. Естественно, он знал, кто, как и чем дышит на его территории, и мог дать любому исчерпывающую характеристику. Все, последовавшие за моим прибытием, события в этом селе, разворачивались на фоне тотальной разрухи привычной среды обитания колхозных трутней.
Вследствие неизбежного коллапса колхозной системы, навевался жуткий страх неверия, в устойчивость всей украинской государственности. Испугавшись ельцинской России, в свое время, колхозникам дали, в едином порыве, проголосовать за исторический акт, подтверждающий независимость страны. Но, увидев какие могут быть исторические последствия, после того, как все устаканилось, – и, в первую очередь, в России, – вот тут-то им и довели до сведения: как они опростоволосились, пойдя на поводу у мнимых националистов. Пытаясь как-то наладить обратный отсчет исторического времени, они взяли курс на реинкарнацию московской империи в Украине.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/book/aleksandr-pyshnenko/napishi-mne-o-galchonke-zapisi-na-zheleznodorozhnyh-b-70965871/) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.